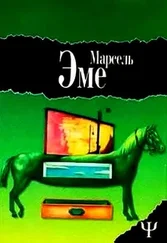Света было недостаточно — он шел от стола, за которым работал Пьер, но Делько не хотел просить его наклонить колпак лампы. Действие романа происходило в 1943 году в Лионе, в кругах Сопротивления, и почти каждая строка давала Максиму основания для возмущения. Злило его буквально все: как героизм, находчивость, жизнерадостность, великодушие, внешняя привлекательность участников Сопротивления, так и трусость, алчность, гордыня, непроходимая тупость вишистских предателей. Будь это в его власти, он сгноил бы автора в тюрьме. «Своим чистым, открытым взглядом Патрис смерил мерзавца с головы до ног». Патрис был молодым студентом-голлистом, мерзавец — делягой черного рынка, страстно желавшим победы Германии. Делько криво усмехнулся. Его утешала злорадная мысль, что с победой голлистов деляга ничего не потеряет. В конце концов он выпустил книгу из рук. Свет был так скуден, что от чтения разболелись глаза. В ожидании, пока Пьер закончит и уляжется, он принялся рассматривать светлый круг, который отбрасывала на потолок по ту сторону ширмы лампа у изголовья кровати Мари-Анн. Девушка тоже читала роман. Иногда, когда она меняла положение, Делько слышал, как под ней скрипит потревоженный матрас. Через распахнутое настежь окно внутрь устремлялись ночные бабочки, кружились под потолком и летали по всей комнате, не считаясь с перегородкой. Одна бабочка спикировала на лампу Мари-Анн и, проникнув под абажур, принялась отчаянно трепыхаться в этой ловушке. Девушка прикрикнула: «Дура, надоела ты мне». Делько пожалел, что бабочка не вдохновила его божество на более поэтичные слова, но все равно был счастлив услышать голос Мари-Анн. Пьер собрал тетради, потушил лампу, разделся в полумраке и улегся в постель с величайшими предосторожностями, стараясь избежать малейшего соприкосновения с соседом. Они лежали каждый у самого края матраса, так что места между ними хватило бы еще и какому-нибудь толстяку. Уставший после долгого и трудного вечера, Пьер тотчас заснул, а вскоре погас свет и у Мари-Анн. Для Максима Делько наступил час привычных сладких томлений. В тишине и темноте соседство Мари-Анн становилось волнующим, и он мог дать волю любовной тоске. Заботиться о выражении своего лица, как и опасаться насмешки свидетеля, уже не приходилось, и он бросал пламенные взгляды, раздувал ноздри, строил страстные гримасы, произносил про себя пылкие тирады, прижимал ладони к груди, доводил себя до слез. В воображении его рисовались простые, но невероятные картины — например, что он достаточно отважен, чтобы перелезть через уснувшего Пьера и пробраться за ширму. Что Мари-Анн спит. Что в лунном свете он видит ее разметавшиеся по подушке белокурые волосы, умиротворенное сном лицо, белую простыню, легонько вздымающуюся в такт ее дыханию. Что он чуть сжимает ей руку, а когда она просыпается, не дает ей опомниться и тотчас принимается говорить. Что тихим, но пылким голосом он говорит ей о своей любви, о бессонных ночах, о своей надежде и тоске и что каждое из этих горячих, терпких слов проникает девушке в самое сердце. Что она взволнована, но при этом так ничего и не происходит.
Тем временем Мари-Анн, к которой никак не шел сон, думала о Монгла-сыне, возбуждаясь от этих мыслей. С того дня в лесу Слёз она встречала его только на улице и упорно отказывалась от свидания на природе. Еще накануне Мишель предложил ей съездить с ним на машине в одну из окрестных деревень, где он снял дом с мебелью. Она не согласилась. Парень ничего не понимал. «В тот день ты была не против, тебе это даже нравилось, а нынче и слышать не хочешь». Он злился, ревновал, у него вроде бы даже появились подозрения: уж не хочет ли она окрутить его, прибрать к рукам его денежки? Теперь, лежа в постели, Мари-Анн уже жалела, что отказалась. Он нравился ей, несмотря на то что был полноват, грузен; ее не смущала даже его нахальная самоуверенность, зачастую переходившая в грубость, при воспоминании о которой в иные минуты ей становилось не по себе. Взволнованная и разгоряченная, она вызывала в памяти все, что он говорил и делал в тот день в лесу Слёз. У него был вид по-деловому озабоченного механика, который осматривает какую-то деталь в моторе. Вот этот-то апломб, эти его ухватки простолюдина в миг наслаждения, пренебрежение всякой стыдливостью (если он вообще знал, что это такое) и каким бы то ни было притворством и придавали ее воспоминаниям такую поразительную реальность. При свете дня, на ясную голову об этом невозможно было думать без смущения и внутреннего протеста, но сейчас, в ночной тиши, когда от одиночества тело плавилось в истоме, разум поневоле становился его сообщником и образы и слова всплывали в сознании объемными и осязаемыми. Ворочаясь в постели, Мари-Анн вновь и вновь переживала те сладостные минуты. Дороже всего ей были самые грубые слова и жесты: в них ярче проявлялся мужчина, самец. Вот бы встретить его завтра, мысленно взмолилась она, сказать, что она согласна. А вдруг он пройдет мимо, не захочет остановиться? Ничего, она найдет предлог подойти к нему. К примеру, расскажет о Максиме Делько и попросит его употребить свои знакомства в высоких сферах, чтобы закрыть дело.
Читать дальше
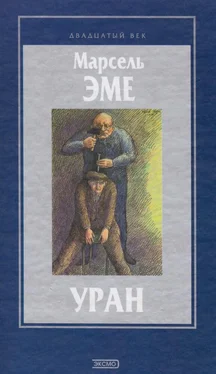
![Марсель Эме - Проходящий сквозь стены [Рассказы]](/books/26795/marsel-eme-prohodyachij-skvoz-steny-rasskazy-thumb.webp)
![Марсель Эме - Зелёная кобыла [Роман]](/books/28168/marsel-eme-zelenaya-kobyla-roman-thumb.webp)