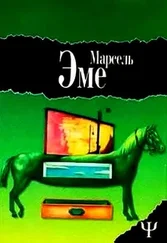Сатир собирался что-то сказать, но его перебил отставной капитан, снедаемый жаждой выговориться:
— Французская Народная партия. Да-да, Народная партия. Капитан Мере, Жозеф. Военная медаль. Орден Почетного легиона. Военный крест. Семь благодарностей в приказе. Нашивки младшего лейтенанта в Вердене, под командой маршала. Да здравствует Петен! Де Голль? Не знаю такого. Тридцать пять лет выслуги. Капитан Мере, Жозеф, призван в девятьсот девятом году. Прошел всю войну. Семь благодарностей в приказе. Трижды ранен. Никогда не видел, чтобы генерал командовал маршалом. В оккупации я понял. Я был против этих гнусных подонков из Москвы. Своего мнения не скрывал. Для Легиона французских добровольцев против большевизма оказался слишком стар. Записался к Жаку Дорьо. Вот это был человек. Он понял. Во время Освобождения я был у брата, земледельца в Эссенэе. Две недели назад меня взяли по доносу. Упекли в тюрьму. Меня, капитана Мере. Тридцать пять лет выслуги. Семь благодарностей в приказе. Прошел всю войну и Рифскую кампанию в Марокко. Вот как поступает коммунистическая сволочь с верными сынами Франции. Но я отыграюсь. Я выложу судьям все, что думаю. Ну и накладут же они в штаны! Я скажу им: «Капитан Мере, Жозеф. Тридцать пять лет выслуги…»
Тут дверь в камеру открыл надзиратель. Он выговорил узникам за шум, потом повернулся к Леопольду:
— Лажёнесс, на выход.
Леопольд оторвался от табурета и с угрюмым видом направился к двери.
— Застегнись, — сказал надзиратель.
— Нет.
Надзиратель пожал плечами, но настаивать не решился.
Они двинулись по широкому длинному коридору меж двух рядов камер, прошли мимо другого надзирателя, который, заложив руки за спину, мелкими шажками прохаживался по коридору. Из камер сквозь оконца в дверях доносились обрывки разговоров заключенных. Их голоса сливались в громкое гудение. Пройдя несколько шагов, кабатчик застегнул рубашку, которая была рассупонена до пупа. Надзиратель глянул на него с признательностью.
— К тебе пришел адвокат, — сказал он.
Леопольд отнесся к этой новости совершенно безучастно. Когда они спускались по лестнице на первый этаж, он взял надзирателя под руку и вполголоса спросил:
— Ты не мог бы вместо полулитра в день передавать мне по литру?
— Никак нельзя.
— Будешь получать на пятьдесят франков больше.
— Это трудно.
— Сто франков.
— Я попытаюсь.
Адвокат, мэтр Мегрен, седоволосый худощавый человечек с насмешливым взглядом, был известен в Блемоне как активный участник Сопротивления. Еще в конце 1940 года он создал разведывательную организацию и на протяжении трех с лишком лет занимался кипучей деятельностью. Когда оккупация подходила к концу, коммунисты, опасаясь, как бы после войны в нем не взыграли политические амбиции, сумели оттеснить его на вторые роли. Бомба разрушила его дом и убила его дочь — она находилась рядом с ним в погребе, где все укрывались. Теперь он жил в двух комнатах в квартире колбасника, там же и принимал клиентов. Ремесло его стало куда менее прибыльным, чем раньше. Две трети предпринимателей разорила бомбежка. Оставшиеся же остерегались прибегать к услугам соседа, который в любую минуту мог донести на них как на коллаборационистов. Зато мэтр Мегрен как участник Сопротивления, что придавало ему определенный вес в глазах судей, пользовался большим спросом у политических и вел дела даже за пределами департамента. От большинства из этих клиентов не приходилось ждать ничего, кроме убытков: то были бедные, но честные чиновники, ограбленные либо лишенные прав собственности коммерсанты, оракулы без гроша за душой, непредусмотрительные содержанки, несовершеннолетние без поручителей, проходимцы и моты, успевшие растранжирить вражеские сребреники. Зато те из них, которых поддерживали богатые родственники, платили хорошие деньги. Впрочем, адвокат старался для всех с одинаковым усердием.
— Ну? — буркнул Леопольд, усаживаясь подле него.
Всю обстановку крохотной комнатенки составляли столик и два стула. Своей изящной, тонкой рукой адвокат дружески хлопнул Леопольда по необъятной спинище. Уроженец Блемона, он страстно любил свой город и питал слабость к колоритным личностям, украшавшим его своим своеобразием. Кабатчик с площади Святого Евлогия был в глазах мэтра Мегрена одним из интереснейших человеческих монументов, уцелевших от катастрофы.
— Дорогой мой Леопольд, мне нечего сказать вам кроме того, что вы уже знаете. Материалы на вас пустяковые: три анонимки, обвиняющие вас в том, что вы прятали у себя Максима Делько, да протокол жандармского расследования с какими-то неясными показаниями. Так что это чисто административная мера. Понимаете? Это означает, что выводы следствия никого не интересуют и отсутствие состава преступления не помешает властям держать вас за решеткой. Разумеется, я виделся и с коммунистами. Они проявляли большую сдержанность и даже, я бы сказал, некоторое замешательство. Во всяком случае, я не заметил, чтобы они были так уж настроены против вас. Навряд ли они стремились упрятать вас сюда надолго. Что мне не нравится, так это поведение социалистов. Они, похоже, возражают против произвола в отношении вас, но уж больно робко. Этого недостаточно, чтобы всколыхнуть общественное мнение, но вполне достаточно, чтобы ожесточить против вас коммунистов. Я сказал Удену и Бермону, что, негодуя лишь шепотом, социалистическая партия оказывает вам плохую услугу, но, как вы сами понимаете, им на это наплевать.
Читать дальше
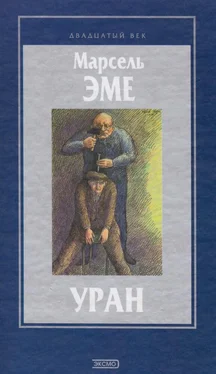
![Марсель Эме - Проходящий сквозь стены [Рассказы]](/books/26795/marsel-eme-prohodyachij-skvoz-steny-rasskazy-thumb.webp)
![Марсель Эме - Зелёная кобыла [Роман]](/books/28168/marsel-eme-zelenaya-kobyla-roman-thumb.webp)