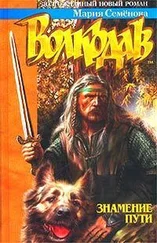Последнее дело спорить с мужчиной в постели. Но я не удержалась:
– Ты ведь понимаешь, что все это в истории уже было и не один раз? И варианты финалов более-менее известны…
– Нет, – убежденно сказал он, – такого еще не было. Майдан – это новая история. Новая жизнь.
Он был на десять лет моложе меня, как я могла ему сказать, что нет ничего нового под солнцем? Ни мужчин, ни женщин, ни падающих истуканов, ни восстающих против несправедливости народов, а лишь суета сует и томление духа. Он бы все равно не поверил. Я осторожно гладила его по избитой спине и целовала в нежный уголок кожи около правой ключицы. Как бы я хотела радоваться и надеяться вместе с ним. Но я не могла.
– Я хочу, чтобы у нас было как в Европе, – сказал он. – Я хочу свободы. Мне двадцать шесть лет, – сказал он и сам удивился этому числу, – и все время я вижу эти долбаные рожи, этих долбаных регионалов. Этих уголовников. Я что, всю жизнь должен на них смотреть? Они мертвые, Алина. Они как зомби. Я не хочу жить в стране, которой правят зомби. Ты видела лица титушек?.. Там же что ни физиономия, то уголовное дело! А Антимайдан? Это же глухой совок! Они же ничего не понимают в современном мире. И не хотят понимать!
Он говорил, говорил, говорил, и мне начинало казаться, что под руками у меня не мужское тело, а хорошо упакованный рулон партийной агитации. Это все были не его слова. И глухое невнятное чувство, похожее на отчаяние, разрасталось во мне, когда я их слышала. Ласковый и влюбленный мальчик, которого я знала, повторяя чужие лозунги, превращался в другого, может быть, лучшего, но совершенно незнакомого мне человека. Явственно чувствовался зазор. Дмитрий тоже, бывало, рассказывал мне всякое, когда мы валялись на мокрых измочаленных простынях: про империю, волю, особенный русский путь. Но он умел взять чужие идеи и сделать их своими. Когда он говорил, я не видела разрыва между тем, чем он был, и тем, что он говорил.
– Ты думаешь, если Янык уйдет, станет лучше?
– А что, хуже?.. Куда уж хуже, Алина?!
У меня было несколько ответов на этот вопрос, но все они казались фантастическими и неуместными. Ну почему я не могла просто согласиться… Почему обязательно надо было возражать?..
– Нужны новые люди, новая система. Ты думаешь, Майдан – это что? Толпа, бардак? Да ничего подобного. Майдан – это новая система самоорганизации общества. Мобилизации, реагирования, взаимной поддержки. Не смотри телевизор! Послушай меня. Мы – не какие-то русские рабы, мы сможем!
И снова, и снова он в красках рассказывал, как бежал от «Беркута», и смертный страх прошедшего дня распалял сегодняшнее желание, и он падал в меня, как в снег, и я обнимала его, как улица, и волокла за собой, как толпа, туда, в ту единственную осязаемую точку, где восторг, обрушение, жизнь и смерть.
Потом мы лежали, обнявшись, и я говорила, глядя в светлеющий потолок, остро чувствуя бесполезность каждого произносимого мною слова:
– Когда революции так буквально копируют, повторяют друг друга, начинаешь сомневаться, так ли уж они революционны. В Москве роняли Дзержинского, в Багдаде рушили памятники Саддаму. Теперь вот Ленин… А я росла на историях про «общество чистых тарелок», про чернильницу, сделанную из корки хлеба, – чтобы продолжать работать над книгой даже в тюрьме… И даже сейчас, когда все рухнуло и продолжает рушиться, мне кажется иногда, что уроки, вынесенные из этих наивных рассказов, – это, возможно, единственное, что до сих пор удерживает меня и многих других от зла. Потому что, сломав то, что было, лучшего не предложили. И я боюсь, что снова сломают и снова не предложат…
Виталик приподнялся на локте, погладил меня по выглянувшему из-под одеяла плечу и спросил:
– А кто такой Дзержинский?..
Я оставила моего мальчика отсыпаться в разворошенной постели, а сама побежала в институт. Сегодня наконец должен был прийти сантехник, починить протечку в кабинете, где мы вторую неделю загибались от холода. Самая короткая дорога шла через парк. Я давно не ходила здесь и теперь с грустью отмечала, что за зиму упало еще несколько тополей. Когда-то, чтобы посадить деревья, сюда выходили на субботники целыми цехами. Но то время прошло, тополя состарились и теперь валились по одному. Пришлось сделать крюк и зайти в исполком (бывший «исполком», конечно, – официально здание уже много лет называлось мэрией, но советский новояз въелся в память – не отдерешь). Один из моих одноклассников занимался теперь городским благоустройством. Я перехватила его в коридоре, где он мелкой руководящей трусцой бежал по красной ковровой дорожке из одного кабинета в другой. Глаза у него были красные, как с недосыпа или с похмелья.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу