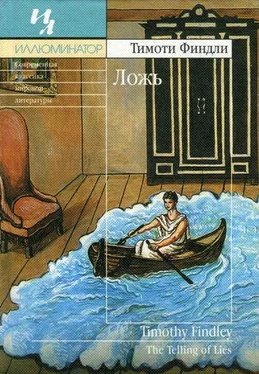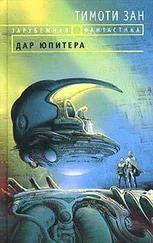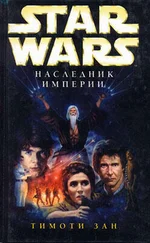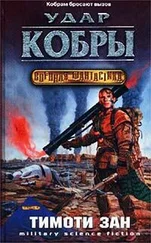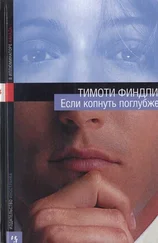Мужчины переглянулись.
Наверно, тут была некая кодовая реплика, некий сигнал, который Джоуэл не умел расшифровать или вообще не уловил. Неожиданно оба, как по команде, повернулись к нему лицом. С усмешкой. Словно и в самом деле играли с ним в какую-то игру, и теперь эта игра закончилась.
«Ладно, — сказал один, вроде как подводя итог, — мы выяснили всё, что хотели».
«Очень жаль, — добавил второй. — Правда очень жаль, что вы не смогли принять наше предложение. Восемьсот долларов на дороге не валяются. Весьма недурственное подспорье, чтобы покрыть часть расходов на учебу. Мы надеялись, вы поймете».
Джоуэл вконец растерялся. Они вроде как намекали, что он что-то им сообщил, что-то необычайно важное, такое, чего, наверно, говорить не стоило. С другой же стороны, кажется, намекали, что он упустил свой шанс, не понял всей подоплеки их предложения.
Засим оба удалились. Зашагали в сторону пайн-пойнтского шоссе, на ходу приводя себя в божеский вид — одергивая пиджаки, приглаживая волосы. Только тогда Джоуэл сообразил, что машина, подъехавшая к развилке, но не продолжившая путь ни к гостинице, ни дальше по шоссе, ждала этих двоих, чтобы, когда они закончат дела, увезти обоих прочь.
Прежде чем отправиться обратно, в безопасный Дортуар, Джоуэл еще постоял там, прислушиваясь. Хотел узнать, куда поедет машина.
Укатила она в сторону Ларсоновского Мыса и «Пайн-пойнт-инна».
...

80. Я издавна привыкла быть одна и — еще с времен Бандунга — решила нести свои тяготы в одиночку. Детство я провела одна, в частной школе мисс Хейлс. И пятнадцатое свое лето провела здесь одна (с дядей Бенджамином), мама тогда уехала к папе на Яву. А потом и я — одна — проделала долгий путь из Сан-Франциско через Гонолулу и Манилу в Сурабаю. Кажется, я вечно была одна.
В ту ночь, когда убили моего отца, я видела, как дождь смывает его кровь. И в моем сознании дождь стал его кровью. Наутро целые лужи ее стояли по всему лагерю. Она окружала меня, стоявшую на островке. Я была в шоке, но хорошо помню, как стояла и думала: я не могу двинуться с места, не могу уйти. Ведь мне бы пришлось брести по отцовской крови.
Мой островок был просто кочкой, горсткой земли, прикрывавшей корявый корень — кажется, тапангового дерева, которое росло за оградой. (Деревья возле ограды вырубили из опасения, что мы выкарабкаемся на свободу. Но у тапанга корни огромные, само дерево находилось во многих ярдах отсюда.) Я простояла на островке все утро, не смея пошевелиться. До сих пор чувствую кожей свое платье — выцветшее ситцевое платье с застежкой на пуговки, от горла до талии, старое, рваное, в заплатах. Волосы слиплись, космами падали на лицо, слепили глаза. Я плакала. Несколько часов, без единого звука. Точно помню, что плакала — слезы были горячее дождя. И мочилась, стоя там, и теплая моча ручейками стекала по ногам. Но мне было наплевать.
Пока продолжались эти мучения, моя мама — Роз Аделла — сидела, откинувшись на руки обступивших ее женщин, в открытом углу просторной террасы, которая тянулась по фасаду нашего барака. Помертвевшее овальное лицо утратило всякое выражение, и вся ее несносная красота стала ненужной — живость исчезла, навсегда. Зачем, зачем отца убили у нее на глазах! Они — глаза — умерли, наверняка вместе с ним. И смотрели на меня так, как чьи угодно глаза смотрят на незнакомого человека, стоящего под дождем.
Остальные женщины молча — чуть ли не в коме от духоты, царившей под железным навесом, — толпились возле нее, в том же углу, опять-таки наблюдая за мной, словно я была персонажем их снов. Одни стояли прислонясь к столбам, скрестив руки на груди и полузакрыв глаза. Другие — плечом к плечу, облокотясь на перила, свесив руки наружу и чуть пошевеливая ладонями в текучем воздухе, как обычно делают женщины, сидя в лодке. А дождь, падавший между нами, создавал — и до сих пор создает — бисерную завесу, сквозь которую я видела и буду видеть всегда, как моя мама тает вдали, будто уплывает на корабле. Даже не помахав на прощание рукой. Она просто смотрела на меня и ушла, бросила меня.
А я смотрела на нее и говорила себе, что совсем осиротела. Именно там и тогда я решила, что — сколько мама ни проживет — ей никогда уже не бывать моей мамой. Теперь она — вдова своего мужа, и хотя едва ли я тогда вполне это осознавала, какая-то догадка у меня брезжила: нет, я никогда не допущу, чтобы меня называли чьей-то вдовой или чьей-то матерью, я всегда буду только самою собой.
Читать дальше