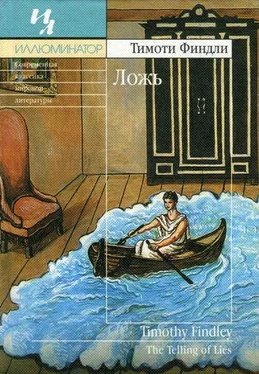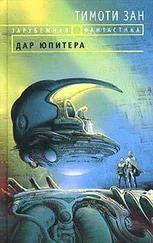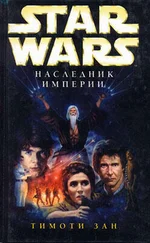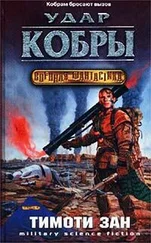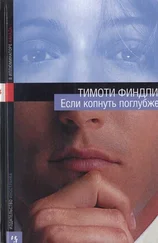Я даже вспомнила его имя — Таддеус. А ведь всего несколько часов назад не могла узнать в лицо. Лучше бы так и осталось, но нет.
Теперь мне срочно требовалась пилюля, чтобы усмирить — если не стереть целиком — неприятности, в которые мы вляпались. Я хотела, чтобы они ушли или хотя бы обрели пропорции, с какими я способна совладать. Только бы происходящее прояснилось, стало четким по краям, где сейчас все расплывается, полностью попало в фокус.
Знаю, по силе воздействия эти вещи несоизмеримы, но ощущение, мало-помалу овладевавшее мной, напоминало о Яве 1942 года. Волна важных событий, которые поистине ни у кого в голове не укладывались, подступала все ближе, принуждая нас проглатывать ежедневную порцию реальности. В те давние годы мы сидели дома и в гостиницах, слушая радио и посмеиваясь. Стремительность продвижения японских армий захватывала дух, и мы решили, что этого просто не может быть. Гонконг пал? И полуостров Малакка? И остров Сингапур? Всё «неприступное» — и всё разбито, покорено, в руках врагов? Немыслимо. Нет, говорили мы, сюда они наверняка не придут. Не смогут.
Мы были дураками и слепцами, мало того, осознанно культивировали в себе эту дурость и слепоту. Интересно, какой такой наркотик отводил нам глаза?
Мне приходит на ум только одно — сакраментальные фразы, которыми мы изо дня в день убеждали себя: со мной этого не случится, с нами не случится, здесь не случится.
А когда это случилось, сделали вид, будто никакой ответственности не несем, что, на мой взгляд, равнозначно заявлению: это было не наше дело.
Девятого марта 1942 года голландская Ост-Индия пала. В течение недели мои отец с матерью — как и все подданные европейских и американских государств — были интернированы.
Нет. Нынешняя ситуация не такова. Но слепота та же. И ее осознанность.
70. Во дворе возле коттеджа зашуршали велосипеды, и я подумала: пора идти. Дети вернулись.
Вставая, я посмотрела на Петру — любопытно, как она реагирует на возвращение детей. Ее разрыв с ними — притча во языцех среди родственников, не менее знаменитая, чем разрыв между нею и ее матерью. Тетя Лидия не выказывает к Петре ни малейшего интереса. А Петра точно так же не интересуется ни Хогартом, ни Дениз.
Она подает им на стол — велит есть свою, с позволения сказать, стряпню. Одевает их в какие-то мрачные, серо-бурые шмотки. Порой же словно бы забывает, кто они такие, и нуждается в напоминании. Правда, гораздо чаще ей надо напоминать, где они, хотя бы они и находились совсем рядом, в соседней комнате. И дело тут (не знаю, как это выразить) не в нехватке любви или заботливости, а просто в нехватке внимания. Мне кажется, Петра слегка не от мира сего. Ее уносит от нас куда-то вдаль.
Мы с Петрой двоюродные сестры, но она всегда относилась ко мне как к тетушке. У нас большая разница в возрасте, ни много ни мало двадцать один год, и думается, в ее глазах я что-то вроде старой барыни, которой впору нюхать соли и носить кружевные чепцы. А разница в возрасте обусловлена тем, что дядя Бенджамин был женат на матери Петры вторым браком.
Куда важнее, по-моему, ее манера создавать дистанцию между нами, привычка — думаю, единственная в своем роде — смотреть на окружающих как на второстепенных персонажей книги, которую она в данный момент читает. Иными словами, мало кто из нас способен предстать перед нею в своем реальном обличье. Мы все кружим на периферии ее текста, порой оказываемся в фокусе и снова исчезаем в тумане.
Прошлым летом, например, поголовно все население «Аврора-сэндс» пребывало вместе с Петрой в капкане «В поисках утраченного времени», пока она слово за словом одолевала сложности сего романа. Никогда в жизни я так надолго не застревала в роли литературного персонажа. Самый короткий период случился в начале пятидесятых, когда четырех-пятилетняя Петра читала «Кролика Питера». Не то чтобы каждому отводилась в этих фантазиях особая роль, просто книжный мир у Петры, когда она читает, обретает плоть и кровь и выходит за пределы прочитанных страниц. Вот почему, пока «Кролик Питер» не кончился, взрослый мир вокруг нее тонул в густых листьях салата и капусты. Реквизит в откуда ни возьмись возникшем огороде.
Положа руку на сердце нельзя не признать, что всякий, вольно или невольно, может оказаться втянут в глубь определенных аспектов Петрина чтения. В прустовский период она вовлекла всех нас в дело Дрейфуса [15] Судебный процесс во Франции в 1890-е гг.: офицер французского генерального штаба Альфред Дрейфус (1859–1935), еврей по национальности, был ложно обвинен в государственной измене и приговорен к пожизненному тюремному заключению. Дело Дрейфуса взволновало французскую общественность и вызвало бурные дискуссии; писатель Эмиль Золя обвинил правительственные круги в разжигании антисемитизма. В 1899 г. Дрейфус был помилован, в 1906-м — оправдан.
. Мы разделились на два лагеря — дрейфусаров и антидрейфусаров, — и недели на две дух fin de siècle [16] Конец (XIX) века (фр.).
стал немного чересчур реальным и более чем вызывающим. В итоге произошел целый ряд весьма эмоциональных перепалок и по меньшей мере один раскол, продолжающийся по сей день. Арабелла, дрейфусарка, с прошлого августа не разговаривает с Майрой Одли. Майра занимала твердую антидрейфусарскую позицию и поныне верит, что смерть Эстергази — вообще-то вполне мирная — была результатом сионистского заговора. Поскольку Эстергази скончался шестьдесят с лишним лет назад, а Дрейфуса, которого он погубил, нет в живых уже более полувека, я не рискну в этой связи делать выводы о политических воззрениях моих коллег-постояльцев.
Читать дальше