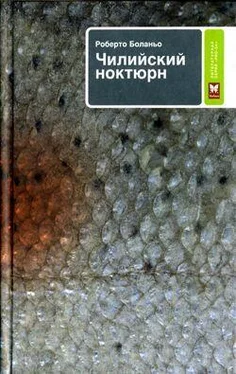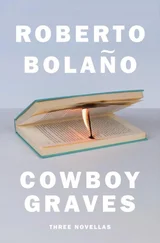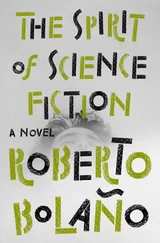Là-bas, a в соседнем имении, уже обо мне знали, и не исключено, что они специально пришли к усадьбе Фэрвелла в надежде на мессу, а для него это не составило бы никакого труда, так как в усадьбе имелась часовня, однако Фэрвеллу это и в голову не пришло, ясное дело, ведь его почетным гостем был Неруда, который хвастал, что он атеист (это, между прочим, для меня не факт), к тому же выходные проходили под знаком литературы, а не теологии, и за это, конечно, я голосовал обеими руками. И все же было очевидно, что крестьянки прошли через все эти пастбища и засеянные поля по еле заметным тропкам с единственной целью меня встретить. Вот я им и попался. Они на меня посмотрели, а я на них. И что же я увидел? Круги под глазами. Потрескавшиеся губы. Лоснящиеся скулы. И смирение, которое не походило на христианское. Смирение как бы из другого измерения. Его нельзя было назвать чилийским, хотя женщины были чилийками. Смирение это не происходило ни из Чили, ни из Америки в целом, ни даже из Европы, Азии или Африки (правда, культуру последних двух континентов я знал плохо). Это смирение походило на что-то внеземное. Терпение, которое едва не переполнило мою чашу терпения. Их слова, перешептывания заполнили пространство полей, рощи, колеблемые ветром, волнующиеся травы, огороды и сады. Я начал беспокоиться, потому что, наверное, в доме меня ждали и Фэрвелл или еще кто-нибудь гадали о причинах моего долгого отсутствия. А женщины только улыбались, или делали серьезную мину, или изумлялись, их лица, только что бесстрастные, окрашивались то загадочным, то просветленным выражением, они обменивались между собой вопрошающими жестами или восклицаниями без слов. Тем временем двое мужчин, оставшихся поодаль, уже развернулись и стали уходить, но не по прямой, не просто в сторону гор, а зигзагом, переговариваясь, показывая друг другу какие-то приметы на полях, будто и в них живописный пейзаж вызывал потребность поделиться вслух какими-то особыми наблюдениями. Третий крестьянин, который хватал меня за руку, когда я падал, и составлял женщинам компанию, остался на месте метрах в четырех от нас. Повернув голову, он внимательно проследил взглядом за своими товарищами, будто его очень интересовало, что делают или на что смотрят остальные, и он боялся пропустить малейшую подробность. Помню, как я жадно рассматривал его лицо, отмечая каждую деталь и пытаясь угадать характер и психологию этого типа. В памяти, однако, осталось только то, что он был непривлекателен, даже уродлив, со слишком короткой шеей. На самом деле все они отличались неприглядностью. Женщины были некрасивы и говорили что-то непотребное. Мужик был безобразен, а его недвижность тоже была непотребной. Удалявшиеся крестьяне были мордаты, а их галсы по полю непотребны. И прости меня, да и их, Господи. Души, заблудшие в пустыне. Я повернулся и ушел. На прощание поулыбался, что-то сказал, спросил, как пройти к главному зданию усадьбы, и ушел. Одна из женщин вызвалась меня проводить. Я отказался. Женщина настаивала: «Я вас сопровожду, падре», так и сказала «сопровожду», – подобное слово, произнесенное этими губами, меня развеселило. «Ты меня сопровождишь?» – переспросил я, сдерживая смех. «Я самая», – ответила она, так и сказала «самая». Тот ветер конца пятидесятых годов до сих пор тихо носит эти слова или похожие на них по бесконечным извилинам памяти, которую я даже не признаю своей. Но тогда я заколыхался от распиравшего изнутри смеха, меня буквально корчило. «Не стоит, – говорил я, – хватит, хватит на сегодня». Развернулся и ушел быстрым шагом, размахивая руками и с улыбкой на лице, которая прорвалась – едва я скрылся за спасительным занавесом сушившегося белья – хохотом, а шаг перешел в рысцу, напоминающую солдатский бег. В саду
Là-bas рядом с террасой из благородного дерева гости Фэрвелла слушали, как читает Неруда. Я тихонько пристроился рядом с его молодым учеником, который покуривал с угрюмым и сосредоточенным видом, пока фразы великого поэта расходились по земляной коре или пробивались через ладно скрепленные балки террасы и устремлялись ввысь, к бодлеровским облакам, чередой пересекавшим распахнутые небеса родины. В шесть вечера я уехал. Так закончился мой первый визит в
Là-bas. До Чильяна меня подвез на автомобиле один из гостей Фэрвелла. Успели прямо к поезду, на котором я вернулся в Сантьяго. Так я причастился к миру литераторов. Сколько впечатлений, зачастую противоречивых, толпилось в моем мозгу в последующие ночи, когда я размышлял, ворочаясь в полусне! То и дело всплывал силуэт Фэрвелла, темный и округлый, как бы вырезанный в высоком дверном проеме. Сунув руки в карманы, он будто пристально созерцал ход времени. Еще Фэрвелл представлялся сидящим в кресле в своем клубе, нога на ногу, рассуждающим о литературном бессмертии. Ах, это литературное бессмертие! В другой раз мне грезилась целая группа фигур, ухвативших друг друга за пояс, будто они отплясывали конгу 15по всему салону, стены которого были сплошь увешаны картинами. «Танцуйте, падре», – говорил мне кто-то невидимый. «Я не могу, – отвечал я, – мне не позволяет обет». В одной руке у меня была тетрадочка, другой я записывал набросок литературной рецензии. Книга называлась «Ход времени». Ход времени, шаг времени, скрипение лет, пропасть иллюзий, крушение всех устремлений, кроме заботы выжить. Тем временем змея танцующих конгу [15]неумолимо, синкопами, приближалась к моему углу, попеременно и в унисон поднимая то левые ноги, то правые, то левые, то правые, и среди танцующих я различил Фэрвелла, державшего за пояс одну сеньору из самого высшего общества Чили тех лет, сеньору с баскской фамилией, которую я, к сожалению, забыл, а его, в свою очередь, обхватил за пояс некий старичок, чье тело, казалось, было готово вот-вот рассыпаться, старичок, который скорее был мертв, чем жив, но который улыбался направо и налево и получал наслаждение от танца больше, чем остальные. В другой раз ко мне возвращались сцены из моего детства и отрочества, и я видел тень отца, скользившую по коридорам дома, будто ласка, или хорек, или угорь, помещенный в какой-то неподходящий аквариум. «Никаких разговоров, никаких диалогов», – вещал чей-то голос. Я силился понять его природу. Может быть, это был голос ангела? Голос моего ангела-хранителя? Или голос демона? Вскоре я догадался: это был мой собственный голос, голос моего супер-Эго, который пилотировал мой сон, подобно летчику со стальными нервами, моего супер-Я, который вел грузовик-рефрижератор по дороге, объятой пламенем, в то время как некто ныл и говорил на тарабарском языке, похожем на микенский. Мое Я, как и следует предполагать, сопело в две дырочки. То есть спало и продолжало работать. В то время я как раз начал служить в Католическом университете. В печати появились мои первые стихи, первые рецензии на книги, заметки о литературной жизни Сантьяго. Я продолжаю вспоминать, привстав на локте и подняв голову повыше. Писал о таких, как Энрике Лин, наиболее выдающийся из своего поколения, Джаконе, Урибе Арсе, Хорхе Тейльер, Эфраин Баркеро, Делиа Домингес, Карлос де Рока – золотая молодежь. Все или почти все испытали на себе влияние Неруды, кроме немногих, подпавших под влияние – лучше сказать, под крыло – Никанора Парры. Еще можно вспомнить Росамеля дель Валье. Конечно, я его знал. Я писал критические статьи обо всех них: и о Росамеле, и о Диасе Касануэве, и о Браулио Аренасе, и об их приятелях из «Мандрагоры», и о Тейльере, и о молодых поэтах с дождливого юга, и о прозаиках пятидесятых годов, о Доносо, Эдвардсе, Лафуркаде. Все это были прекрасные люди и отличные писатели. Еще писал о Гонсало Рохасе, об Ангите, о Мануэле Рохасе, рецензировал Хуана Эмара, Марию Луису Бомбаль и Марту Брунет. Были у меня заметки и толкования книг Блеста Ганы, Аугусто Д'Альмара и Сальвадора Рейеса. И я принял решение – хотя это случилось раньше, скорее всего раньше, сейчас я могу напутать, – что нужно выбрать какой-нибудь псевдоним, чтобы подписывать литературоведческие работы, а для своих поэтических опытов приберечь настоящую фамилию. И с тех пор меня знают как Ибакаче. Постепенно это имя стало более известно, чем Себастьян Уррутиа Лакруа, что меня удивляло, но и удовлетворяло, поскольку Уррутиа Лакруа подумывал написать поэму, с претензией на классику, которая должна была выкристаллизоваться с течением лет, причем таким стихотворным размером, какой давно уже никто в Чили не использовал, – да нет, что я говорю! – никто и никогда у нас не использовал. Ну а Ибакаче тем временем читал и публично рассуждал о прочитанном – так, как раньше это делал Фэрвелл, осуществляя нелегкие литературоведческие изыски на нашей почве, необходимые для дальнейшего культурного развития, выполняя сдерживающую и примиряющую роль, подобно маяку на гибельном скалистом побережье. И эта творческая чистота, ассоциируемая со скромным именем Ибакаче, – достойная всяческого восхищения, поскольку Ибакаче как бы проглядывал между строк или воспринимался в контексте, хотя по сути он хищно набрасывался на чужие сюжеты и их препарировал, – оказалась способной как никакая другая уловка оттенить творчество Себастьяна Уррутиа Лакруа, который стих за стихом добавлял бриллианты в непорочную мантию своего двойника. Однажды на литературном вечере в доме Сальвадора Рейеса, на котором присутствовали пять-шесть гостей, в том числе и Фэрвелл, хозяин заговорил как раз об этой чистоте творчества. Он заявил, что одним из самых дельных писателей из всех, с кем ему довелось общаться в Европе, был немецкий литератор Эрнст Юнгер. Фэрвелл, конечно, знал эту историю, но хотел, чтобы я услышал ее из уст дона Сальвадора, и попросил рассказать, как и при каких обстоятельствах они познакомились. Дон Сальвадор уселся в кресло, отороченное золотой каймой, и поведал следующее. Дело было в Париже, давно, в период Второй мировой войны, когда его направили работать культурным атташе. На приеме в каком-то посольстве – то ли чилийском, то ли германском, то ли итальянском, – одна знакомая красавица спросила, не представить ли его известному немецкому писателю. И дон Сальвадор – ему тогда, по моим расчетам, было менее пятидесяти лет, то есть он был значительно моложе и здоровее, чем я в данный момент, – с радостью согласился: да, конечно, Джованна, буду тебе очень признателен, и итальянка, которая была княжной или герцогиней, влюбленной, наверное, в нашего писателя и дипломата, повела его через анфиладу комнат, двери которых раскрывались перед ними, как лепестки таинственных роз. В последней находились группа офицеров вермахта и несколько человек в штатском. Центром внимания всей компании был капитан Юнгер, герой Первой мировой войны, автор «Стальных ураганов», «Африканских игр», «По мраморным склонам» и «Гелиополиса». Дождавшись паузы после нескольких суждений знаменитого немецкого писателя, итальянская принцесса представила ему чилийского дипломата, и они, конечно, перекинулись мнениями о литературе, а потом Юнгер в порыве дружелюбия спросил нашего литератора, нельзя ли почитать какую-нибудь из его вещей на французском, на что чилиец с радостью ответил: разумеется, есть у него одна книга, переведенная на французский, он с огромным удовольствием ее подарит. Юнгер довольно заулыбался, они обменялись визитками и условились о дате, когда можно будет поужинать, пообедать или даже позавтракать вместе, потому что распорядок дня Юнгера был плотно забит разными обязательствами, и отменить их было нельзя, за исключением особых случаев, которые могли возникнуть в любой момент и неотвратимо сдвинуть заранее условленную встречу. Тем не менее они назначили взаимоприемлемую дату для того, что дон Сальвадор назвал «перекусить по-чилийски», чтобы Юнгер воспринял это как нечто достойное и не думал, будто мы, чилийцы, до сих пор еще ходим в перьях. Затем они распрощались, и дон Сальвадор вместе со своей итальянской княгиней, или герцогиней, или принцессой пошли тем же макаром обратно, через залы, открывающиеся друг в друга, будто некая таинственная роза, которая раскрывает свои лепестки другой таинственной розе, та раскрывает свои лепестки еще одной, а та еще одной, и так до скончания веков, беседуя на итальянском о Данте и его героинях, хотя для нас, должен вам заметить, суть рассказа не изменилась бы, если бы они беседовали о Д'Аннунцио [16]и его проститутках. Несколько дней спустя дон Сальвадор неожиданно встретился с Юнгером в мансарде одного гватемальского художника, которому не удалось уехать из оккупированного Парижа и которого дон Сальвадор время от времени навещал, каждый раз принося ему разные продукты: хлеб и паштет, бутылочку бордо, килограмм спагетти в грубой бумаге, чай и сахар, рис и постное масло, сигареты – все, что можно было найти на посольской кухне или на черном рынке. За это гватемалец-художник, предмет заботы нашего писателя, никогда его не благодарил, появись он даже с банкой икры или сливового мармелада, а то и с шампанским, – дескать, спасибо, Сальвадор, или благодарю, дон Сальвадор, – а однажды наш культурный атташе, придя в гости, принес с собой один из своих романов, тот экземпляр, который он собирался подарить некоей персоне, чье имя ни под каким видом не должно было быть произнесено, поскольку персона та была замужем; так вот, поглядев на художника-гватемальца, в очередной раз поникшего духом, он решил подарить или просто дать ему на время этот роман, а когда месяц спустя снова явился к нему с визитом, то книга, его книга лежала на том же самом месте – на столе или на стуле, – куда он ее положил, и на вопрос, не нашел ли он слишком скучным его роман или, наоборот, получил от него массу удовольствия, художник, пребывавший в обычном своем угрюмом и неразговорчивом настроении, ответил, что не прочел, на что дон Сальвадор проговорил с обидой, свойственной в таких случаях каждому автору (по крайней мере, чилийскому или аргентинскому): тогда будем считать, что не понравился. Гватемалец возразил: нельзя сказать, понравился или не понравился, если он его попросту не читал, и дону Сальвадору ничего не оставалось, как только взять в руки книгу и убедиться по пыли, которая имеет обыкновение оседать на книгах (да и на вещах), когда ими не пользуются, что да, его приятель прав, – и наш литератор надолго охладел к нему. Появившись в мансарде месяца два спустя, он застал гватемальца еще более высохшим, как будто все эти два месяца тот крошки не брал в рот, задавшись целью умереть, разглядывая из своего окна парижские кварталы, от болезни, которую некоторые медики тогда называли меланхолией, а сегодня анорексией, [17]– в наших краях болезнь эта свойственна в первую голову молодым девушкам, эдаким «лолитам», которым ее надувает ветер, запутывающийся в призрачных улочках Сантьяго, – однако в те годы и в том городе, поверженном германской мощью, ею страдали гватемальские художники, жившие в темных и труднодоступных мансардах, и писалась она не анорексия, а меланхолия,
Читать дальше