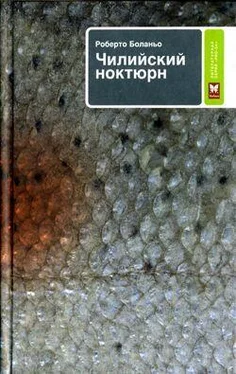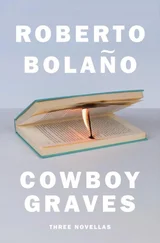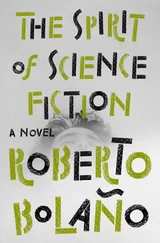Là-bas?» – пролепетал я, стуча зубами. «Ну да, оттуда, но этого сеньора я не знаю», – пробурчало это Божье созданье. Тогда до меня дошло то, что для людей толковых должно было быть очевидным. Фэрвелл – это ведь псевдоним знаменитого критика. Попытался вспомнить настоящее имя. Звали его вроде Гонсалес, но фамилия куда-то ускользала, и я стал мучиться, говорить ли, что меня пригласил сеньор Гонсалес, или благоразумно промолчать. Решил смолчать, откинулся на козлы и закрыл глаза. Кучер поинтересовался, как я себя чувствую. Тут, при звуке его голоса, приглушенного ветром, и вспомнилась настоящая фамилия Фэрвелла: Ламарка. «Я приглашен сеньором Гонсалесом Ламаркой», – с облегчением воскликнул я. «Сеньор вас ждет», – ответил крестьянин. Когда Керкен с его птичками остался за спиной, я почувствовал себя триумфатором. В
Là-bas Фэрвелл уже поджидал меня в компании одного молодого поэта, чье имя оказалось мне незнакомо. Оба находились в гостиной, хотя назвать ее так можно было с большой натяжкой – скорее, библиотека или охотничья зала – так много было там энциклопедий, словарей и всяких сувениров, которые Фэрвелл привез из путешествий по Европе и Северной Африке, а еще дюжина голов животных, в том числе двух пум, добытых отцом Фэрвелла. Как и следовало ожидать, разговор между ними шел о поэзии, и хотя он прервался в связи с моим прибытием и устройством в комнатке на втором этаже, но потом тут же возобновился. Помню, как мне не терпелось поучаствовать, что и было мне любезно предложено, но я предпочел остаться в роли слушателя. Проявляя огромный интерес к литературной критике, я ведь еще и сам писал стихи, а тут сработала интуиция: пускаться в живую, острую, профессиональную дискуссию означало бы для моего некрепкого суденышка болтанку в бурных водах. Помню, мы пили коньяк, а еще помню, как, разглядывая фолианты на полках, почувствовал себя глубоко несчастным. Временами Фэрвелл хохотал – казалось, слишком уж громко. Каждый раз, когда это происходило, я поглядывал на него исподтишка. Он напоминал Пана, или Бахуса в своем притоне, или полубезумного конкистадора, одичавшего в каком-нибудь форту на дальнем юге. Молодой человек, наоборот, смеялся тонким голосом, похожим на проволочку – нервную такую струнку, и смех его подтягивался вослед солидным похохатываниям Фэрвелла, будто стрекоза за гадюкой. В какой-то момент Фэрвелл объявил, что ожидаются еще гости, приглашенные на ужин. Я потупил глаза и навострил уши, но гостеприимный хозяин был явно настроен на сюрприз. Потом я вышел прогуляться по усадьбе. Ну и заблудился. За садом простиралось поле, диковатый пейзаж, поодаль тень деревьев, где хотелось укрыться. Было невыносимо зябко и сыро. Завидев какую-то хижину, скорее барак, окна которого светились, поспешил туда. Слышались смех мужчин и возмущенные восклицания женщины. Дверь барака была приоткрыта. Залаяла собака. Постучав и не дождавшись ответа, я вошел внутрь. Вокруг стола сидели трое работников Фэрвелла, а у печи, где горели дрова, хлопотали две женщины, одна старая, другая молодая. Увидев меня, они подошли и взяли мои руки в свои, шершавые на ощупь. «Как хорошо, что вы пришли, падре», – сказала старуха, становясь на колени и целуя руку. Я почувствовал страх и брезгливость, но руки не отнял. Мужчины встали. «Присаживайтесь, падре», – сказал один из них. И только тогда меня как ударило, что я до сих пор красуюсь в сутане, которую набросил на себя, собираясь в дорогу. Следовательно, приехав, я был настолько не в своей тарелке, что забыл переодеться в комнате, выделенной для меня хозяином. На самом деле я только подумал о том, что надо переодеться, но вместо этого спустился обратно к Фэрвеллу в охотничью залу. И еще в той крестьянской хижине я предположил, что у меня так и не будет времени переодеться перед ужином. И еще – что у Фэрвелла, скорее всего, сложится обо мне ложное впечатление. Наконец, подумалось и о приглашенных «сюрпризах» – наверняка весьма уважаемых персонах, – как же я предстану пред их очами в сутане, покрытой дорожной грязью, паровозной копотью и пылью тропинок, ведущих в
Là-bas, эдаким желторотым монашком, который робко, не поднимая глаз, отведывает кушанья в дальнем конце стола? И тогда до меня донесся голос одного из крестьян, приглашавшего присесть. В каком-то трансе я сел. Женский голос предлагал попробовать это, попробовать то. Кто-то заговорил о больном ребенке, но произносил слова так невнятно, что было неясно, то ли ребенок хворает, то ли уже умер. А я-то что могу сделать? Если умирает, то позовите врача. Так он давно умер? Тогда надо заказать на девять дней заупокойную мессу в честь Девы Марии. Прибрать могилку, выполоть пырей, им все зарастает. Поминайте его в молитвах. Боже мой, я же не могу поспеть всюду. Не могу, не могу. «А он был крещен?» – услышал я собственный голос. «Да, отец наш». – «А, ну тогда все в порядке». – «Хотите хлеба, падре?» – «Можно попробовать». Передо мной положили целую краюху. Черствый, каким обычно и бывает крестьянский хлеб, испеченный в глиняной печи. Отломив кусочек, поднес к губам. Вот тогда мне и привиделся впервые тот самый поседевший юнец, стоявший в дверном проеме. Но это от нервного истощения. Дело было в конце пятидесятых, ему, юнцу этому, было тогда лет пять, самое большее шесть, а террора, доносов, преследований и в помине не было. «Как вам хлебушек, падре?» – спросил крестьянин. Хлеб во рту пропитывался слюной. Ответил что-то вроде: хорош, очень вкусный, очень, лучше не бывает, нектар богов, сладостная пища родины, что бы без него делали наши трудяги поденщики в поле, роскошный, великолепный. И правда, хлеб был неплох, он вполне годился, чтобы заморить червячка. Поблагодарив хозяев за угощение, я поднялся, благословив знамением пространство перед собой, и вышел на свежий воздух. Снова послышался собачий лай, качались ветви деревьев, словно в зарослях скрывалась какая-то животина, следившая за моими блужданиями в поисках дома Фэрвелла, который, впрочем, не замедлил возникнуть в темноте, словно трансатлантический лайнер под южными звездами. Когда переступил порог, ужин еще не начался. Я решил проявить характер и не стал снимать сутану. Некоторое время проторчал в охотничьей зале, листая редкие издания. На полках по одной стене было собрано самое лучшее, самое изысканное из чилийской поэзии и прозы, причем каждый экземпляр имел дарственную надпись автора, посвященную Фэрвеллу: слова простые, любезные, пылкие или панибратские. Я отметил про себя, что кабинет нашего амфитриона можно сравнить с гаванью, в которой находили убежище на долгое или короткое время все литературные экипажи моей родины, начиная от легких яхт до уважаемых сухогрузов, от пропахших рыбой лодок до экстравагантных броненосцев. Нет, не случайно несколько минут назад дом этот напомнил мне трансатлантический лайнер! Но сравнение вотчины Фэрвелла с портом, сказал я себе, ближе к реальности. Со стороны террасы послышался тихий шорох. Охваченный любопытством, я открыл одну из дверей-окон и вышел. Воздух стал еще более холодным, на террасе не было никого, но в саду вырисовывалась продолговатая, словно от гроба, тень, направлявшаяся к ветвистому навесу – подобию греческой сцены, которую Фэрвелл воздвигнул рядом с диковинной конной статуей, маленькой, сантиметров сорок ростом, бронзовой, на порфировом пьедестале, будто вечно выезжающей из аллеи. На небе, свободном от туч, четко вырисовывалась луна. Ветер раздувал полы сутаны. Я решился и двинулся к месту, где скрылась тень. И я увидел его рядом с конной фантазией Фэрвелла. Он стоял спиной ко мне, в вельветовом жакете и шарфе, в шляпе с узкими полями, сдвинутой на затылок, и в каком-то трансе бормотал слова, которые не могли быть адресованы никому, разве что луне. Я застыл, подобный отражению скульптуры, левая нога в воздухе. Это был Неруда. Не знаю, наверное, это и было тогда самым главным событием. Стоял Неруда, в нескольких метрах от него я, и еще ночь, луна, конная статуя, чилийские кусты и деревья, тенистое великолепие моей родины. История, подобная этой, вряд ли тронет того поседевшего юнца. Он-то не был знаком с Нерудой. Он не познакомился ни с одним из великих писателей нашей республики при подобных судьбоносных обстоятельствах, о каких я рассказываю. И тогда было неважно, что происходило до того, что после. Я видел Неруду, читавшего стихи луне, земле, звездам, чью природу мы не знаем, разве только догадываемся. И рядом был я, дрожащий от холода в своей сутане, которая казалась мне в тот момент слишком большой по размеру, целым кафедральным собором, а внутри я, голышом с широко открытыми глазами. А Неруда напевал фразы, и их было трудно расслышать, но смыслом их я был пропитан с первого звука. Я стоял не шевелясь, со слезами на глазах, бедный клирик, затерянный в пространствах родной страны, жадно внимая словам нашего самого знаменитого поэта. И сейчас, опираясь на локоть, я спрашиваю себя: тот поседевший юнец пережил хоть одну подобную сцену в своей жизни? Я всерьез спрашиваю: хотя бы одну пережил? Я читал его книги. Таясь и урывками, но читал. В них нет даже намека ни на что подобное. Есть скитания, уличные драки, ужасные убийства в переулке, дозированный секс как дань моде, похабщина и бесстыдство, есть даже описание сумерек в Японии, не в нашей стране, есть преисподняя и хаос, ад и хаос, пекло и хаос. Бедная моя память, бедная моя репутация… А потом был ужин. Этого почти не помню. Неруда сидел рядом с женой. Фэрвелл – с молодым поэтом. Ну а я… Спрашивали – почему в сутане? Я улыбался. Хитро так улыбался. Мол, не было времени переодеться. Неруда прочел стихотворение. Вместе с Фэрвеллом они припомнили что-то довольно замысловатое из Гонгоры. Юный поэт оказался, конечно, поклонником Неруды. Неруда прочел еще что-то. Кушанья были изысканными. Салат по-чилийски, куски дичи в беарнском соусе, жареный морской угорь, доставленный Фэрвеллу с побережья. Вино собственного урожая. Похвалы со всех сторон. На десерт, который растянулся до глубокой ночи, Фэрвелл на пару с супругой Пабло ставили пластинки на зеленый граммофон, для услаждения слуха поэта. Танго. Пел какой-то отвратительный голос, смаковавший грешные истории. И вдруг, наверное из-за чрезмерных ликерных возлияний, мне стало плохо. Помню, как вышел на террасу и уставился на луну, которая совсем недавно была благодарной слушательницей нашего поэта. Опершись на массивную подставку для герани, постарался унять тошноту. За спиной послышались шаги. Обернулся. Подбоченясь, на меня смотрел Фэрвелл, гомеровская фигура. Спросил, не плохо ли мне. Я ответил, что нет, просто небольшое опьянение, сейчас на ветру, дующем с полей, пройдет. Из-за тени не было видно, но я чувствовал, что Фэрвелл улыбается. До нас доносилась приглушенная мелодия танго, под которую пел тонкий и жалобный голос. Фэрвелл спросил, каково мое впечатление от Неруды. Ну что я могу сказать, ответил я, он великий из великих. Какое-то время молчали. Потом Фэрвелл сделал пару шагов ко мне, и стало видно его лицо старого греческого бога, разбуженного луной. Краска стыда залила мое лицо: рука Фэрвелла дотронулась до моей талии. Он стал говорить о ночах, воспетых итальянскими поэтами, о ночи Якопоне да Тоди. [5]О ночи Самобичующихся. [6]«Вы их читали?» Я что-то промямлил. Ответил, что в семинарии пролистал книги Джакомино да Вероны и Пьетро да Бескапе, а еще Бонвесина де ла Ривы. [7]Тогда рука Фэрвелла дернулась, будто червяк, разрубленный пополам мотыгой, и убралась с моего пояса, но улыбка осталась на лице. «Ну а Сорделло?» – спросил он. «Какой Сорделло?» – «Ну, трубадур, – ответил Фэрвелл. – Сордель или Сорделло». [8]«Нет» – ответил я. «Взгляните на луну», – предложил он. Я бросил взгляд. «Нет, не так, – сказал Фэрвелл. – Повернитесь и смотрите». Я повернулся. За моей спиной Фэрвелл бормотал: «Сорделло, какой Сорделло? Тот, что кутил с Риккардо де Сан Бонифацио в Вероне и с Эццелино да Романо [9]в Тревизо, – какой Сорделло? (В этот момент рука Фэрвелла вновь оказалась на моих бедрах!) Сорделло – тот, что катался на лошадях с Рамоном Беренгером и Карлом I Анжуйским [10]и при этом ничего не боялся, ничего не боялся, ничего!» Я помню, что в тот миг сознавал только страх, хотя предпочел не отрывать глаз от луны. Испуг мой происходил не оттого, что рука Фэрвелла устроилась на моих бедрах. Не из-за руки это было и не из-за ночи, которую прорезывала луна более колкая, чем пронизывающий горный ветер, и не из-за граммофонной музыки, которая пьянила гостей отравой бесстыжих танго, и не из-за голоса Неруды, или его жены, или его любимого ученика – из-за чего-то другого, но чего, Святая Дева Кармен? – спрашивал я себя в ту минуту. «Сорделло, какой Сорделло? – повторил голос Фэрвелла за моей спиной. – Сорделло, воспетый Данте, Сорделло, воспетый Паундом, [11]Сорделло, написавший
Читать дальше