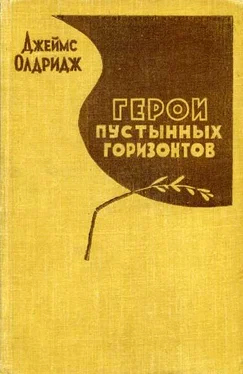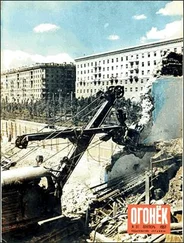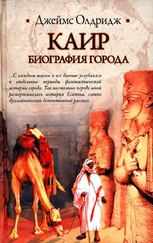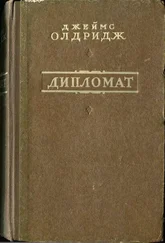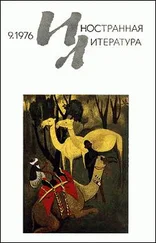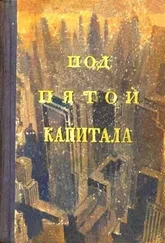В атмосфере острой идеологической борьбы созревал замысел романа «Герои пустынных горизонтов». Успехи лагеря социализма и мира, воодушевлявшие народы на освободительную борьбу, не радовали его идейных врагов. Вдохновители «холодной войны» призывали сдерживать коммунизм силой, объявляя против него «крестовые походы», распространяя иллюзии о «свободном мире», «американском веке», о ничем не стесненной «свободной воле». В этих условиях развенчание идей буржуазного индивидуализма, держащих в плену определенные круги английской интеллигенции, представлялось особенно важной творческой задачей.
И эта задача была по плечу писателю именно такого склада и масштаба, как Джеймс Олдридж, который выводит своих героев на широкую общественную арену, сталкивая их с самыми существенными проблемами человеческого бытия. Он не замыкается в скорлупу личных переживаний, подобно другим английским писателям, погруженным в рассматривание мелких, низменных страстишек через лупу или микроскоп.
Со всей остротой поставлен в романе вопрос об отношении различных слоев английского народа к национально-освободительному движению в колониальных и зависимых странах. Из романа ясно вытекает, что слова о свободе личности остаются словами, если все благополучие «богоравной» личности зиждется на социальном и национальном унижении. Весь ход событий, изображенных в романе, свидетельствует о том, что прославление «священных» традиций преданности «короне», всемерные попытки колониалистов морально оправдать систему национального гнета находятся в вопиющем противоречии со стремлением к свободе народов колониальных и зависимых стран.
«Герои пустынных горизонтов», как и «Дипломат», в историко-литературном плане знаменуют собой конец «колониального» романа с его экзотикой примитива, принижением покоренных народов, романтизацией могучих покорителей и становление «антиколониального» романа, эпопеи национального освобождения. Обличение идейной и моральной несостоятельности колониализма, показ народного страдания здесь органически сливается с изображением народного возмущения. Вышедший из народа герой (Джават Гочали, Зейн) — не просто объект сочувственного внимания или жалости художника: гордый и независимый, он осознает свои цели и, познав законы общественного развития, делает историю. В духовном облике такого героя нет былой приниженности и фатальной покорности судьбе, как у порабощенных народов в произведениях «имперского», «колониального» жанра, утверждавших идею расового превосходства «белого» человека и неизбежность его покровительственной, «цивилизаторской» миссии. Вышедшие из народа и не потерявшие с ним кровной связи, герои национального освобождения избирают нелегкий путь борьбы за справедливые национальные чаяния.
В романе тесно сплетены две главные сюжетные линии — повествование о судьбе англичанина Гордона и о восстании кочевых племен, сливающемся с борьбой рабочих и крестьян Бахраза (вымышленное название государства, управляемого английскими марионетками).
Сложная структура романа позволяет автору вскрыть углубление противоречий между метрополией и одной из ее зон влияния, показать рост противоречий и здесь и там: восстания кочевых племен; оживление политических интриг и махинаций в Лондоне; непокорность бастующих рабочих, предъявляющих свои права; разлад в хэмпширском тихом доме Гордонов, где совсем не тихо и не спокойно; неприметные схватки в городке Уэстленде, вотчине промышленной компании; затем снова кровопролитная борьба в Аравии. Все это приближает нас к познанию сложной английской действительности в годы после второй мировой войны.
Уже первые строки романа предвещают ожесточенные бои в Аравийской пустыне. Чуть-чуть торжественная и ироническая по тону историко-эпическая интродукция напоминает о притязаниях царей и полководцев на право вторжения в бескрайние просторы внутренней Аравии.
«Пустыня и века истории сокрушили Римскую башню. Обвалились стены, сводчатые залы занесло песком, от ограды не осталось и следа; и только ворота, вытесанные из светло-желтого камня, висели на своих петлях, почти не тронутые временем. Над каменной плитой для этих ворот трудились не римские, а персидские каменотесы, и всю ее историю можно было прочесть в письменах, покрывавших поверхность камня». Каждый из завоевателей — а их было немало — «спешил высечь на благородной поверхности камня какие-то слова и тем как бы закрепить в веках свою власть над Arabia Deserta». Последние надписи были английскими, это были имена знаменитых путешественников, а также рядовых английских солдат Томсона или Смита, начертанные во вторую мировую войну вульгарной забавы ради — «своего рода заявка Томсона и Смита на Аравию, нужную им если не для себя лично, то для того нефтепровода, который змеей вился вокруг ворот, являя собой чисто английскую дань уважения вековой традиции».
Читать дальше