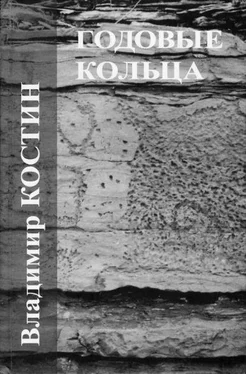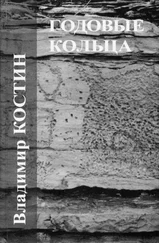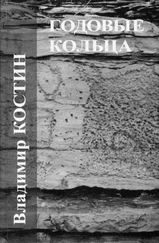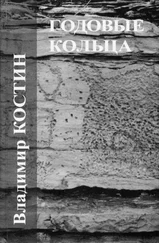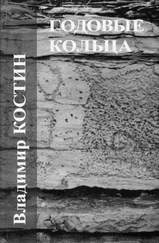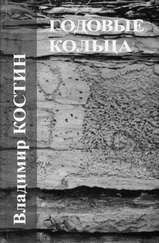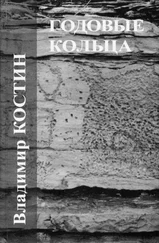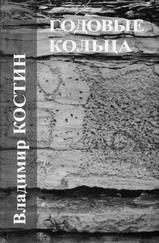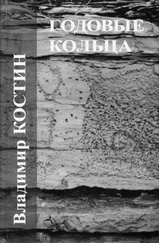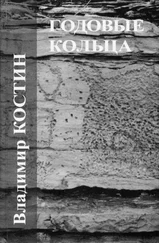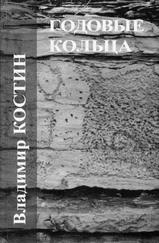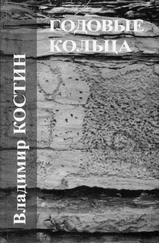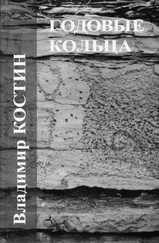Между ней и мной встала ее гордость, ее достоинство, между мной и ею — мое самолюбие, моя слепота.
Тогда, на вокзале, Ляля спокойно, слишком спокойно сказала мне: бабулю не провожай, она не захочет. Ты подойди к ней и попросись в гости. Можешь потом не приходить, но, пожалуйста, попросись. Хорошо? Хорошо, ответил я. Попросился и не пришел: бабуля кивнула откровенно по-болгарски. Не додумался я, что Ляля, переступив через гордость, все-таки бросила мне спасательный круг.
Я должен был попросить: напиши (скорей, и я немедленно приеду). Промолчал, надувая вены и нервы. И она не сказала: напишу. Мне бы потянуться к ней губами — сдержался, боясь, что она отвернется. А она не могла, просто не могла даже потянуться ко мне первой.
С вокзала, сдерживая стоны, с головой, набитой пеплом, я побрел куда глаза глядят. Ноги привели меня к Н. А. Ну да, довериться я мог только ему. Только он мог дать мне совет ценой в счастье.
Но ничего не вышло.
В душной комнате разило потом. Огромный Н. А. метал книги с полки в распахнутый чемодан. Другой чемодан уже был собран и стоял у входа. На полу валялись сочинения Корнейчука с унизительными следами насилия над ними.
— Уезжаю домой, в Бийск, — прорычал Н. А., мельком на меня оглянувшись, — меня выперли! За антисоветчину выперли!
— Нет, биографию портить не стали… Пожалели, приписали аморалку! Пьянство (они якобы не пьют)! Фамильярные отношения со студентами! Нецензурная брань (это я анекдот рассказал на картошке секретарю партбюро, про Пушкина во мху, он добавки требовал, взяточник, мерзавец)!
— Разврат! При Могилевском, что топчет студенток, как кур, — я развратник!
— За разврат? — я был потрясен. Н. А. отличался чистотой нрава, и вообще являлся холостяком.
— За разврат! А помнишь, Людочка Пряжникова? О, она им все рассказала. Как они внимали, как завидовали!
Задыхаясь, он сел на стул. Стул заверещал. Н. А. опустил голову.
— Чего нос морщишь? — не видя меня, пробормотал он. — Думаешь, жара меня доконала? Нет, брат, это я со страху просмердел насквозь. Перебздел насчет политики!
Мое горе подвинулось, я переживал за него. Я возмущался, я понимал, что его подло принесли в какую-то плановую жертву. Но я не знал, что сказать, и тоже опустил голову. Н. А. истолковал это по-своему.
— Испугался, душка, — вдруг рявкнул он, — слушай: а пошел ты к черту! Двигай! Уж ты-то вырастешь таким же, я знаю. Душка!
«Душка». Почему «душка»? Я пошел, глупо, несчастно улыбаясь.
— Сволочи! — зарыдал за дверью Н. А.
Так в жаркий июльский день я простился с единственной в жизни любимой и единственным в жизни светочем разума.
Прошли июль, август, набежал сентябрь. Ляля молчала. В сентябре я понял, что весточки от нее не будет. Никогда.
Все кончилось. Я проклял свое самолюбие, и разгаданная вина давила меня, как египетская пирамида. Но и веру в себя, уважение к себе я потерял навсегда.
Найди я Лялю тогда, найди сейчас, прости, прими она меня — кто, что я был бы или буду перед ней? И что было бы или будет между нами? Я же отныне «Мигалкин», именно «Мигалкин». Это же так некрасиво!
……………………………………………………
А может быть, судьба мудра и не могла быть щедрее? Может быть, оно и хорошо, что мы не успели приземлиться, что так получилось? Я плачу.
СОСТАВИТЕЛЬ: Погода правит детьми и стариками. Бабье лето в тот год запаздывало, его перестали ждать, и горожане, измученные повседневной стылой моросью и ознобом, призывали крепкий подсолнечный морозец и снег. К концу октября сплошные моховые тучи разбежались. Теплый казахстанский ветер прохватил городские холмы и ложбины, потеплело сразу градусов на десять. В переулке снова запахло опростанными огородами и речной отравленной тиной. От нечаянной радости немножко остервенела старая коза: она дважды бодала дядю Сережу-Фарша, приметив его телесную и душевную зыбкость.
Каждый новый день был теплее предыдущего, и так прошла неделя.
А потом, ночью, после того как многие попили вина или чаю на свежем воздухе, на крыльце или лавочке, говоря про май-месяц, пришел жестокий ревущий якут и в часы заледенил, заковал, запечатал все, завалив колючим снегом. Участковые педиатры в те дни забегались. Слегли тысячи стариков. Такие перепады давления и настроения им были не по силам, сосуды трещали от беспощадной перегрузки.
Врачи со стажем и сегодня вспоминают про эту беду в подробностях и с ужасом.
Старуху из дома номер 14 увезли во вторую медсанчасть. Через три дня она умерла. Она отходила в сознании и рассказала нянечке, где у нее в доме припрятаны деньги на похороны. Известили соседей. Деньги нашлись, и с ними — подробная роспись, сколько и на что потратить, вплоть до поминального стола. Соседи, побаивавшиеся, то есть уважавшие старуху, были тронуты, обнаружив, что Агафья пригласила на похороны всех старожилов переулка.
Читать дальше