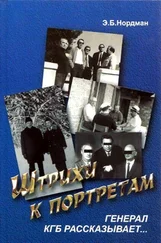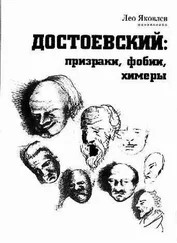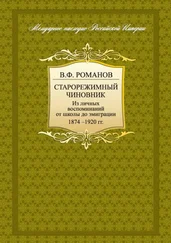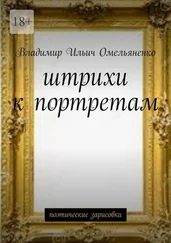«Мне было тогда не больше двадцати шести лет, но я уже отлично знал, что жизнь бесцельна и не имеет смысла, что все обман и иллюзия, что по существу и результатам каторжная жизнь на острове Сахалине ничем не отличается от жизни в Ницце, […] что никто на этом свете ни прав, ни виноват, что все вздор и чепуха и что ну его все к черту! Я жил и как будто делал этим одолжение неведомой силе, заставлявшей меня жить: на, мол, смотри, сила, ставлю жизнь ни в грош, а живу!»
Примерно то же самое сообщает о своем инженере Платонов, относя эти приступы пессимизма в его сознании к тому же возрасту, что и Чехов:
«Инженер Прушевский уже с двадцати пяти лет почувствовал стеснение своего сознания и конец дальнейшему понятию жизни, будто темная стена предстала в упор перед его ощущающим умом. И с тех пор он мучился, шевелясь у своей стены, и успокаивался, что в сущности, самое срединное, истинное устройство вещества, из которого скомбинирован весь мир и люди, им постигнуто, — вся насущная наука расположена еще до стены его сознания, а за стеною находится лишь скучное место, куда можно и не стремиться […].
Прушевский не видел, кому бы он настолько требовался, чтоб непременно поддерживать себя до еще далекой смерти. Вместо надежды ему оставалось лишь терпение, и где-то за чередою ночей, за опавшими, расцветшими и вновь погибшими садами, за встреченным и минувшими людьми существует его срок, когда придется лечь на койку, повернуться лицом к стене и скончаться, не успев заплакать».
Не правда ли, эта цитата звучит, как точный перевод чеховского текста на другой авторский язык?
Задолго до героев Платонова инженер Ананьев совершает в повести «Огни» путешествие в страну детства:
«Я поехал на Кавказ и остановился проездом дней на пять в приморском городе N. Надо вам сказать, что в этом городе я родился и вырос, а потому нет ничего мудреного, что N казался мне необыкновенно уютным, теплым и красивым […]. С грустью прошелся я мимо гимназии, в которой учился, с грустью погулял по очень знакомому городскому саду, сделал грустную попытку посмотреть поближе людей, которых давно не видел, но помнил […].
Я сел на скамью и, перегнувшись через перила, поглядел вниз».
Прушевскому же для возвращения в страну детства не потребовалось никуда ехать, — он перенесся туда усилием мысли, вернее — памяти:
«Прушевский сел на лавочку у канцелярии. Так же он сидел когда-то у дома своего отца — летние вечера не изменились с тех пор, — и он любил тогда следить за прохожими мимо; иные ему нравились, и он жалел, что не все люди знакомы между собой». (Опять-таки, отчетливо слышна чеховская интонация…)
Когда же Прушевский оказался в стране детства — у дома своего отца, — там ожидало его другое Воспоминание, а с ним и Грусть:
«Одно же чувство было живо и печально в нем до сих пор: когда-то, в такой же вечер, мимо дома его детства прошла девушка, и он не мог вспомнить ни ее лица, ни года того события, но с тех пор всматривался во все женские лица и ни в одном из них не узнавал той, которая, исчезнув, все же была его единственной подругой и так близко прошла, не остановившись».
С этого момента образ девушки из детства не покидает Прушевского, и он мечтает найти ее и встретиться с нею.
Инженер Ананьев же, оказавшись в окрестностях своего родного «приморского города N», мечтал о встрече и мимолетном романе с какой-нибудь незнакомкой, но именно к нему, не искавшему Встречи, пришла девочка из страны его детства:
«Это была Наталья Степановна, или, как ее называли, Кисочка, та самая, в которую я был по уши влюблен 7–8 лет назад, когда еще носил гимназический мундир. Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой… Я помню эту Кисочку маленькой, худенькой гимназисточкой 15–16 лет […]. Что за прелесть девочка!»
Роман двадцатишестилетнего Ананьева с Кисочкой, уже бывшей замужем, развивался на фоне страны их детства и не без элементов готики в виде заброшенного четырехэтажного здания с очень высокой трубой, в котором когда-то была паровая мукомольня и в котором сидит эхо и отчетливо повторяет шаги прохожих, а также городского кладбища, развивался очень бурно, но закончился ничем: им не суждено было быть вместе, потому что он позорно бежал из города N.
В поисках своей потерянной любви производитель работ на Котловане Прушевский также оказался вблизи заброшенного здания, в данном случае — кафельного завода, стоявшего в травянистом переулке (упиравшемся в кладбище) и постепенно враставшего в землю. Там и обнаружилась умирающая женщина:
Читать дальше