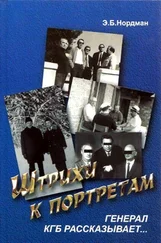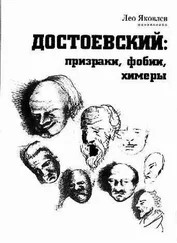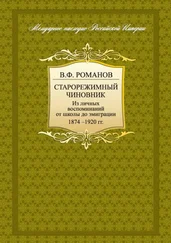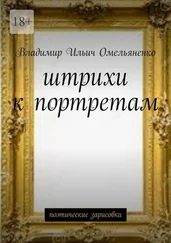«Роман «Нечистая сила» я считаю главной удачей в своей литературной биографии, но у этого романа очень странная и чересчур сложная судьба…», — написал Пикуль в предисловии ко второй журнальной публикации через десять лет после первой.
Далее Пикуль рассказал, что, заключив договор с Лениздатом, он, в ожидании выхода книги, «уступил» ее текст «Нашему современнику», который вскоре сообщил, что будет печатать сокращенный журнальный вариант. «Чужое название» («У последней черты») Пикуль будто бы обнаружил, когда журнал уже вышел (чего, естественно, быть не могло), а «в середине публикации» его роман редактировали жены Брежнева и Суслова (!!). Потом роман «изничтожили» Зимянин и Суслов, чьи слова были «угодливо подхвачены» «Литературной газетой».
Так Пикуль создавал миф о будто бы выпавших на его долю жестоких преследованиях за книгу, бьющую своими аналогиями по коррупции и продажности брежневского окружения, где, по его словам, «голубчик Чурбанов» был так «похож на Гришку Распутина».
На самом деле все было гораздо проще. «Брежневская камарилья», как ее называл Пикуль, не боялась никаких аналогий, а его роман о Распутине не подошел «партии и правительству» только из-за отсутствия в нем в качестве «здоровой силы» вечно живого Ленина со товарищи. Такая книга, как тогда говорили, была «не нужна нашему народу», как и, например, книги Алданова, откуда Пикуль переписывал и пересказывал целые страницы, и «Русская старина», и многое другое.
«Жестокая расправа» с «Нечистой силой» никак не отразилась на писательской карьере Пикуля: каждый год беспрепятственно продолжали выходить его новые и переиздаваться старые книги, а по «знаменательным датам» родная власть украшала его грудь орденами «Трудового Красного Знамени», «Дружбы народов»…
Последний из названных орденов напоминает еще об одном штрихе к смутному образу писателя Пикуля — о его отношении к «неглавным нациям». К нерусскому населению будущего СНГ он относился, как подобает «старшему брату», с грубоватой доброжелательностью и снисхождением. Примером могут служить «запорожские сцены» в «Фаворите», поданные Пикулем в русской «шароварной» традиции с использованием суржика, выдаваемого за украинский язык. Даже сам тон этих «малороссийских» фрагментов призван убедить читателя в том, что речь идет не о национальной самобытности, а о каком-то временном явлении, коему суждено в дальнейшем без остатка раствориться в русской стихии.
Менее доброжелательными оказались «еврейские» страницы «Нечистой силы». То, что в окружении Распутина были евреи и далеко не самые лучшие, это исторический факт. «Старец» был интернационален по духу и терпим в религиозном отношении, и многие «инородцы» — евреи, немцы, татары, поляки решали с его помощью свои личные дела. Единственное, в чем можно было бы упрекнуть Пикуля, так это в том, что присутствию в описанных им событиях евреев он пытался придать черты «мирового сионистского заговора», сделав для этого известного шарлатана Филиппа, происходившего из французской крестьянской семьи, предшественника Распутина при петербургском дворе, евреем и членом несуществующей сионистской организации «Гранд-Альяс-Израэлит».
Эта «организация» была придумана французскими антисемитами в период «дела Дрейфуса». Потом ею стал пугать русское правительство царский шпион и террорист-провокатор Рачковский, один из вдохновителей фальшивки, именуемой «Протоколы сионских мудрецов», находившийся под личной опекой Столыпина и появляющийся в романе Пикуля в качестве неустанного правдоискателя.
Пикуль, конечно, знал, что он воскрешает ложь и политический навет на сионизм, но роман-то создавался им в годы поистине «всенародной» борьбы с сионизмом, когда группа дрессированных евреев уже вынашивала план создания «Антисионистского комитета еврейской общественности», а евреи Бегун, Евсеев и прочие уже строчили ученые «антисионистские» трактаты, перед которыми бледнеет «антисемитизм» частного служителя национал-большевистской музы Пикуля, пытавшегося сказать в своем романе пару слов, приятных правящим «вождям», чтобы сделать его «проходным».
Смерть Пикуля символична: она настигла его 17 июля 1990 года. За год до крушения империи, которой он был предан с юных лет и служил всеми своими трудами. «Хорошо, что мы смертны, не увидим всего», как сказал один из его коллег по «Союзу писателей», и эти слова можно отнести к его кончине.
Читать дальше