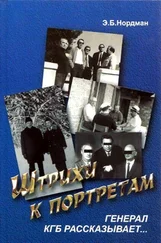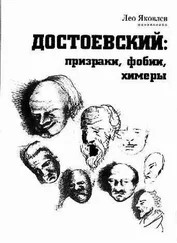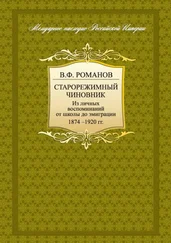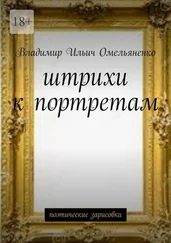Андре Моруа был тогда у нас очень популярен, его книги «доставали» с большим трудом, и подарок Вадима был мне дорог вдвойне, а он, убедившись в моей радости, перешел к прискорбным новостям: как и следовало ожидать, «Опавшие листья» пошли по рукам «совершенно надежных» московских друзей и знакомых и исчезли «среди моря житейского». Я чувствовал, что Вадим тяжело переживает эту потерю, и, как добрый кюре в «Отверженных», прибавивший Жану Вальжану к столовому серебру еще и подсвечники, я преподнес ему «Уединенное» Розанова на тех же условиях: «отдать, когда мне потребуется».
К счастью, мы оба дожили до тех времен, когда эти книги перестали быть запретным плодом и библиографической редкостью.
В трудные семидесятые наши пути во времени и пространстве не пересекались. Я издали, довольствуясь обменом приветами, следил за его трудами, понимая, что относительно немногочисленные публикации его переводов и даже известная мне его самоотверженная работа над эстетическим и философским наследием Поля Валери далеко не исчерпывают всего сделанного им за это плодотворное десятилетие. И меня радовало все то хорошее, что я слышал о нем, когда изредка приходилось соприкасаться с московским литературным миром, и особенно — добрые слова Анастасии Цветаевой, крайне строгой в своих оценках.
А в это время его ожидало очередное соприкосновение со Злом — борьба за возможность съездить во Францию по вполне официальному приглашению, поступившему от французского ПЕН-клуба. Его имя зазвучало в передачах по «вражеским голосам», поползли слухи о письме Вадима к «дорогому Леониду Ильичу». Режим уже начал дряхлеть и за каких-нибудь восемь (!!!) лет ему удалось «выбить» из него разрешение на посещение страны, в культурное сближение с которой он внес значительный вклад. Возвращаться назад Вадим не торопился, ибо понимал, что на «выбивание» следующей поездки у него уже может не хватить ни сил, ни времени, ни жизни.
Жизнь человека на Земле быстротечна, а в своей завершающей стадии она еще более ускоряется, и, перебирая сейчас в памяти наши восьмидесятые и девяностые, я не могу понять, как и когда они прошли. Могу лишь сказать, что все эти годы я всегда помнил о Вадиме и многое знал о его жизни.
Мы опять «с оказией» обменивались приветами и книгами. В начале девяностых вышел у нас сборник «Из трех книг», и я узнал его как оригинального поэта, а в последней посылке из Парижа была новая его книга «Поэт в катастрофе» — о Борисе Пастернаке, Марине Цветаевой и, конечно, о нем самом, переживавшем и победившем ту же самую катастрофу — столкновение поэта с исторической действительностью.
Василий Розанов, раздумья которого часто были фоном нашего с Вадимом общения, как-то записал:
«Секрет писательства заключается в вечной и невольной музыке в душе».
В душе Вадима была эта вечная музыка творчества. Теперь она будет звучать в его книгах.
Явившись по стечению обстоятельств нашим посланником в той самой Европе, к которой теперь стремится Украина, он сумел стать частью парижской духовной элиты, был награжден французскими знаками отличия, и его уход отмечен некрологом не только в России и его родном Харькове, но и в ведущих газетах Франции «Монд» и «Либерасьон». Можно сказать, Вадим Козовой был вторым, после Ильи Мечникова, харьковчанином, получившим во Франции искреннее и благодарное признание.
Четверть века назад Вадим перевел для «Библиотеки всемирной литературы» балладу «Иоанн Безземельный прибывает в последний порт», принадлежащую перу Ивана Голля. Под этим необычным псевдонимом скрыт Исаак Ланг, человек близкой Вадиму страннической судьбы, франко-немецкий поэт-авангардист, живший то в Германии, то во Франции и в Америке, для которого, как и для Вадима, «последним портом» стал Париж. В этой балладе есть такие горькие слова:
И сестры вслед
не вымолвят ни слова,
И не прильнет, бледнея,
мать к окну.
Трава не дрогнет
у крыльца родного,
Что за страна
в беспамятном дыму?
Будем надеяться: дым беспамятства развеется, и Вадим Козовой в своих книгах вернется домой.
1999
Воспоминания о Валентине Пикуле
Моя первая «встреча» с Пикулем произошла при следующих обстоятельствах: около четверти века назад я как-то в очередной раз приехал в Москву на очередное совещание. Сбор был назначен на «после обеда», приехал же я рано и решил начать свой московский день с «Дома книги», а потом уже побывать в продовольственных и иных магазинах, чтобы, как тогда было принято, «достать» что-нибудь (такое, что в Харькове, конечно, тоже было, но не для всех).
Читать дальше