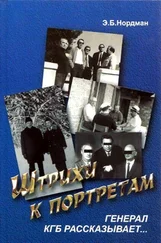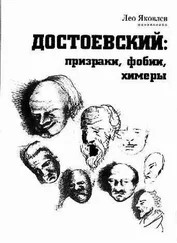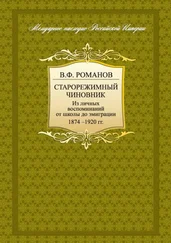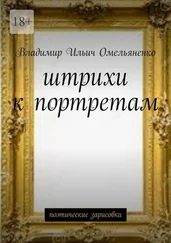В этих же книгах и повестях действуют и живут представители всех наций — немцы, французы, евреи, русские, испанцы, португальцы, англоамериканцы и т. д., и т. п., и все эти разноязычные и разнохарактерные герои выписаны им с пониманием и доброжелательностью. Ремарк не работал со справочниками, документами и научными исследованиями. Он воссоздавал жизнь Вены, Парижа или Лиссабона такой, какой она запомнилась ему самому. Отсюда — те «неточности», которые так любят отмечать дотошные критики (вроде русской фамилии «Петровна» вместо «Петрова»). Возможно, какие-нибудь мелкие огрехи есть и в его описаниях нацистского концлагеря или Восточного фронта. Точность в деталях не имела для Ремарка никакого значения, потому что он как никто другой был точен в самом главном:
— в своем гимне дружбе;
— в своем понимании тончайших оттенков человеческой любви;
— в восприятии смерти;
— в бессмертии человеческой надежды.
На этих четырех вечных камнях — на Дружбе, Любви, Смерти и Надежде — он воздвиг свою формулу нашего страшного века, принятую всем миром как «откровение Ремарка», и те почти тридцать лет, когда его уже нет среди живых, только подтверждают грустную непогрешимость этой формулы. Вероятно, именно поэтому его книги, издание за изданием, продолжают свой путь к сердцам людей и не покинут эти сердца, пока живо человечество.
Ремарк не религиозен. Возможно, что он, как и Варлам Шаламов, считал, что после Освенцима уже нельзя всерьез говорить о христианских ценностях. Отчасти о таких его убеждениях свидетельствуют названия некоторых его книг. Так, например, повествование о жестоком преследовании евреев и «нежелательных элементов» нацистскими властями было издевательски названо им «Возлюби ближнего своего» — евангельской формулировкой одной из Моисеевых Заповедей. Роман же о неизбежности возмездия за нацистские преступления назван словами Екклесиаста «Время жить и время умирать»…
Впрочем, Ремарк не всегда руководствовался словами Господа: «Мне возмездие, и Аз воздам». Его герои в «Трех товарищах», в «Триумфальной арке», в повести «Ночь в Лиссабоне» именем Бога сами выносят приговор и сами его осуществляют. Поэтому «советско-лубянская» критика, любившая упрекать Ремарка в «пессимизме и пассивности», была не вполне справедливой.
Ремарк никогда не гонялся за славой, не участвовал в «литературном процессе», не стремился повлиять на политическую историю мира, не добывал наград. Он автономен и самодостаточен. Ему не были нужны ни поиски и достижения Пруста, Джойса, Кафки, Борхеса, ни щедро расхваленный латиноамериканский опыт сочинения быстро забываемых водянистых романов, пытающихся удержать внимание читателя сексуальными подробностями. Ему ничего не нужно было искать — у него было все свое от первой и до последней строки.
Его бесценными наградами были сожжение его книг нацистами и ненависть гитлеровцев, вылившаяся на членов его семьи — с одной стороны, а с другой — переводы на 50 языков мира многих его произведений, многочисленные экранизации его романов и повестей. Одной из своих наград он, возможно, считал и слова Хемингуэя, который на пресс-конференции после получения Нобелевской премии на традиционный вопрос корреспондентов: «Какой ВАШ роман Вы считаете лучшим?», не задумываясь, ответил: «На Западном фронте без перемен», безоговорочно признав тем самым первенство не отмеченного этой премией Ремарка.
Недостижимость тех высот, на которых пребывал и пребудет вечно Эрих Мария Ремарк, признавал и другой Нобелевский лауреат — Шолохов. Один из его гостей вспоминал, что советский первописатель при нем подошел к книжному шкафу, взял в руки «Трех товарищей», подержал и поставил на место, сказав со вздохом:
— Написать бы такое и можно спокойно умереть…
Не менее важной для себя наградой Ремарк, может быть, считал и ответ официанта в его любимом парижском ресторане на просьбу-приказание рейхсминистра Геринга, побывавшего там со своей компанией после падения Парижа: «Подайте нам любимое вино Ремарка!» Официант с глубоким поклоном произнес: «Простите, но это невозможно, потому что господин Ремарк, уезжая от нас, выпил все свое вино».
Как уже говорилось, Ремарк, как и другой великий немец Герман Гессе, в Германию не вернулся. Он не мог себе представить, как он будет жить среди тех, кто убивал его друзей и близких, жег его книги. Послевоенные годы, после возвращения из США, он большей частью провел в Швейцарии, где и умер 25 сентября 1970 года. Не признает его «своим» и литературный мир послевоенной Германии. В некоторых позднейших литературных справочниках этой страны о нем или вовсе не вспоминают, или отделываются от него одной-двумя фразами.
Читать дальше