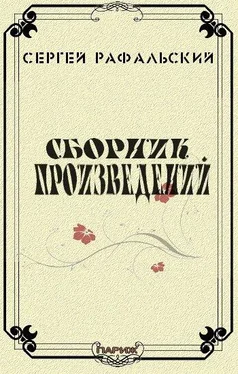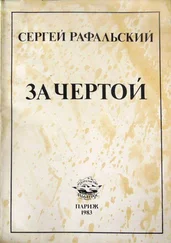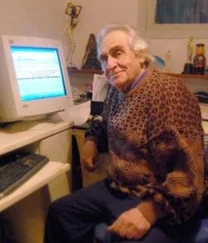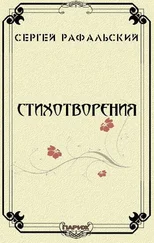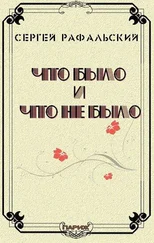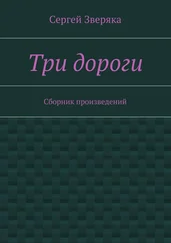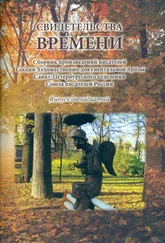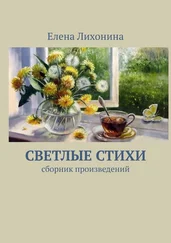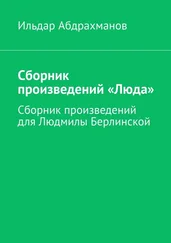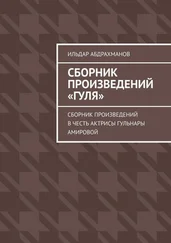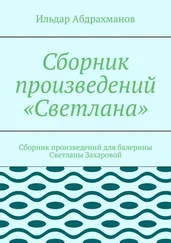«Итак, — сказал докладчик, немного помолчав, чтоб наиболее огорошенные могли прийти в себя, — гносеологически феномен русского разбойничества — наше историческое «воровство» — представляется не чем иным, как формальным коррелятом той первичной антиномичности русской души, в которой — непостижимым для европейского сознания образом — понятие правды противопоставляется идее Права.
Если лидером киевского богатырства был крестьянский сын Илья Муромец, то в московском народном эпосе фаворитным типом становится «витязь леса и большой дороги» — разбойник, как таковой, который и вносит черный — ночной — корректив в дневную кривду градских властей, праведный — мистически обоснованный — мандат Белого Царя превращающих в несправедливую, злую повседневность.
Наш народ не мог не ощущать всей антиномичности в природе своих излюбленных «воров-угодничков» и стремился эту антиномию снять, т. е. освятить, оправдать, искупить — сублимировать — „воровство». Оттого так легко адаптирован народом рожденный в барской фантазии Кудеяр. Он указывает путь из разбойного, воровского, греховного настоящего — в праведное будущее.
Поэтому, скажу я, заканчивая это, несколько затянувшееся сообщение, и для нас он может служить и Символом, и Надеждой…»
Александр Петрович похлопал докладчику вместе со всеми и — пока зал не опустел — еще раз проверил присутствующих. Нужный человек явно надул. На всякий случай — при выходе — Александр Петрович направился за справками к заведующему помещением церковному старосте (зал был при храме Сорока Мучеников).
Бывший помещик, несмотря на лета и горечь изгнания сохранивший барственную полноту и благодушие, встретил его очень мило:
— Молодой человек! Какими ветрами? Я вас до сих пор ни разу не видел на наших докладах.
— Работал, Лаврентий Ефремович! Собраться трудно.
— А теперь что ж? В национальную лотерею выиграли?
— Да нет, Лаврентий Ефремович — место потерял… Второй месяц на «шомаже».
— Что так?
— Заказов стало меньше, и хозяин, вдруг почувствовав голос крови, уехал в Палестину.
— Плохо… Есть что-нибудь на примете?
— Пока ничего определенного… Однако обещают… Кстати, Лаврентий Ефремович, вы вот, как апостол Петр — всегда, так сказать, при вратах — скажите, пожалуйста, не заходил ли сегодня на доклад такой высокий тощий брюнет с проседью, большим портфелем и в сером пальто?
— А как по фамилии-то?
— Секирин…
— Иван Матвееевич?
— Он самый. А вы его знаете?
— Господи! Корнета Секирина не знать! Он командовал карательным отрядом в нашем уезде. И, можно сказать, прогремел.
— Вот не подумал бы!
— Вы, дорогуша, эмигрант сравнительно поздний — во время белого движения почти под столом ходили, и нет ничего удивительного, что вы не знаете… Как же, как же! Такие порки задавал, что мужичкам небо в овчинку казалось. Раз даже попал под суд «за превышение»… Три дня мариновал пейзан на леднике, пока те всех большевичков не выдали. Однако суд его оправдал, потому что в остальном — безупречен: не грабил, взяток не брал и вообще монархист до кончиков ногтей. Вот только в церкви мало прилежен, а наукой, вроде вас, — совсем не интересуется. Так что, насколько мне не изменило зрение, могу поручиться, что сегодня он сюда не заходил…
Выйдя на улицу, Александр Петрович посмотрел на часы. (Свои вчера заложил.) Без четверти пять… Ехать на дом к Секирину рано… Иван Матвеевич уходил из конторы после шести и вдобавок засиживался в кафе — «с клиентами» — как объясняла любопытным добрейшая Лидия Васильевна.
Чтобы убить время, Александр Петрович решил заглянуть в излюбленный Секириным «Куполь» и, сойдя в метро — быть может, под влиянием душных и каких-то потусторонних подвалов — весь наполнился ощущением общей безвыходности и своей, и вообще мировой жизни. Тридцать лет бесконечной канители и впереди такое, что и заглядывать противно. Хотелось не то пожаловаться маме, не то дать кому-то по морде, не то влезть на автомат для шоколадок и оттуда призывать всех к покаянию и братской любвеобильной жизни.
Александр Петрович очень не любил быть безработным. Его изводило все: и то, что вполне здоровый, средних лет мужчина, вдруг впадал в какую-то беспомощность, вроде как в изнурительную и постыдную болезнь, и то, что все ему сочувствуют, но задние мысли ползают по дружелюбным лицам, словно мухи по оконному стеклу — дескать: «не был бы обалдуем — не околачивался бы без работы» или еще хуже: „знаем мы таких! Какая там работа, раз пособие лентяям платят!» А дешевые советы сыплются, как из рога изобилия, а за ними следуют обиды, если их не послушаешь, или, послушав, ничего не доспеешь… А потом надо, как проститутке по тротуару, мотаться по возможным работодателям, предлагаться и на то, чего иногда и в зуб ногой не понимаешь. Причем одни отказывают просто — без выражения, другие «с интонацинй», а третьи и с откровенной грубостью. И то же самое происходит и с чиновниками на разных записях, отметках и получках.
Читать дальше