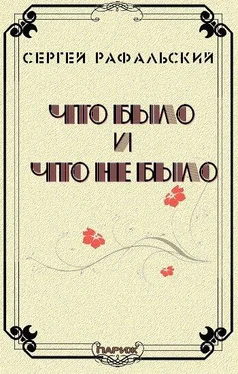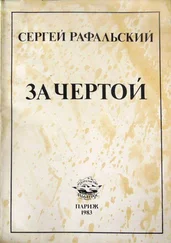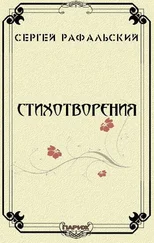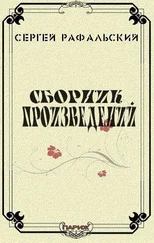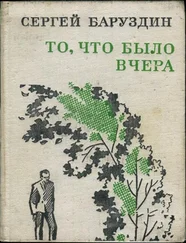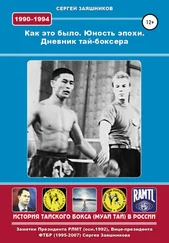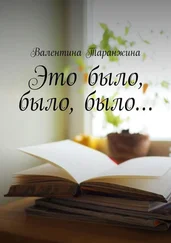Первый тост за наш народ!
За святой девиз: «Вперед!»
Осенью 1914 года, приехав в первый раз в Петроград, как полагалось, к началу академического года, я раскрыл свежий номер «Нового Сатирикона» и сразу же наткнулся на сердечный привет своему (студенческому) «сословию». Автор, фамилия которого пропала в архивах памяти, бесстыдно обкрадываемых неумолимой старостью, писал:
Вновь взбужден наш хмурый Питер
звонким пеньем синих птиц… [1] намек одновременно и на пьесу Меттерлинка, и на синие околыши студенческих фуражек
Вновь душа душе открыта,
мир безоблачно хорош —
город хмурого гранита
наводнила молодежь!..
Через много, много лет, уже в Париже, я прочел книгу «На земском посту» доктора С. Ф. Вербова и познакомился с автором. Это был далеко не заурядной судьбы человек. Начать с того, что доктор, после работы в Земгоре, в конце войны стал врачом в кавалерийском гвардейском полку и даже участвовал в атаке (если можно назвать «участием» положение всадника, которого ошалелая лошадь носила по бранному полю, а он думал об одном — как бы удержаться и не свалиться…). После октябрьского контрреволюционного переворота оказался он в том же качестве лекаря в конной армии Гая, которая подходила к Варшаве с севера, и по вине Сталина и Буденного повернувших к Львову вместо того, чтобы идти с ним на стык к Варшаве, будучи окружена поляками, после ряда гомерических атак, напомнивших французским офицерам, бывшим при польском штабе, наполеоновские годы и конницу Мюрата, прорвалась в Восточную Пруссию и была интернирована. После Рижского мира гаевцы вернулись в СССР, а доктор остался на Западе. Его книга потрясла меня, с одной стороны — убедительным, правдивым и сочувственным изображением нашей «нищей России» и действительно часто подвижнической работы земских врачей в деревнях, с другой — царившей будто бы на стыке столетий в Харьковском университете (где учился доктор) удручающей полицейщиной, чудовищно не похожей, не соответствующей тому, что я нашел в Петрограде.
Правда, впоследствии в разговорах не столько с автором, сколько с его милейшей супругой, я понял, что, поскольку в эмиграции читатель вымирает, а в СССР его непочатый угол, доктор, образно выражаясь, «сгустил краски» в надежде, что соввласти, у которых в Высшей школе еще хуже, соблазнятся возможностью «найти предка» и пропустят книгу в СССР.
Увы, книга не прошла, конечно, а описание «ужасов самодержавия» осталось. В книге доктора «педеля» следят за студентами, подслушивают, подглядывают, залезают даже в курилки. Между ними и слушателями лекций шла непрерывная гражданская война. Естественно, что студенты все время находились на точке кипения. Ничего даже приблизительно подобного я не увидел в Петрограде в историческом здании Петровских Двенадцати коллегий со знаменитым «километровым» коридором. Никаких педелей не было и в помине, то есть был на своих местах вообще малозаметный обслуживающий персонал, сторожа у вешалок и в раздевалке. У последних были у каждого свои «клиенты», которых они знали в лицо и при случае снабжали полезными сведениями, собранными за годы работы от других «клиентов», в частности, о профессорах и их экзаменационных привычках. Когда я как-то, после не совсем благочестивой недели, решив, что все же следует и лекции послушать, зашел в университет и стал снимать пальто, про себя удивляясь, что раздевалка какая-то пустая, сторож меня спросил: «А кого же вы хотите слушать?» — «Конечно, Петражицкого…» — «Да сегодня же праздник!..»
Посещение лекций (по крайней мере, на юридическом факультете) не было обязательным, но аудитории всегда заполнялись у читавших интересно, а тем более таких знаменитых, как Петражицкий, создатель несправедливо забытой эмоциональной теории права, бывший вдобавок весьма придирчивым и беспощадным экзаменатором. У профессоров «назначенных», появившихся при Кассо, слушатели легко поместились бы в одном ряду, если бы сели кучей, но какой процент составляли ходившие по наряду «академисты», а какой случайные или любопытные посетители вроде меня — сказать не могу. Вдобавок читали «назначенные» нелюбопытно.
В те годы вежливость еще не считалась ущерблением личной свободы, и, когда входил профессор, слушатели вставали и садились не дожидаясь, пока им скажут сесть. По окончании лекции аплодировали иногда из приличия, а то с благодарностью и даже с восторгом… Аплодисментов, переходящих в овацию, не помню. Впоследствии, сравнивая с западными университетами, пришел к заключению, что у нас скорее были старшие и младшие товарищи, чем учителя и ученики. На Западе, похоже, студентов больше загружают работой.
Читать дальше