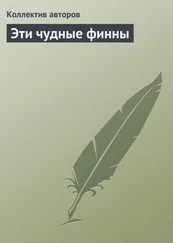Тишкин нес полную чушь.
Сначала он спросил у меня, – разумеется, как писатель у писателя, – каков был словарный запас Пушкина.
– Тридцать, – лишь бы что ответить, сказал я.
– Тридцать семь! Тридцать семь тысяч слов, – торжественно произнес Тишкин, словно он только что сообщил мне великое знание, без которого мое земное существование выглядело бессмысленным. Я невольно покосился на книжную полку, где стоял словарь Пушкина – я точно знал, что в словаре десять тысяч слов... Далее мне было сообщено, что Пушкин – великий русский поэт.
– Выпьем за Пушкина, – предложил я, мне хотелось быстрее уложить гостя.
Тишкин сначала взял стакан смело, поднес его, но сморщился, и его передернуло.
– Мне что-то больше не хочется, – пролепетал он.
– Давай, давай, за Пушкина выпить обязан, все писатели за Пушкина пьют.
Последний аргумент на Тишкина подействовал, и он, давясь, выпил и некоторое время сидел, держа пустой стакан в согнутой руке и бессмысленно глядя перед собой. Потом изрек:
– А еще есть великие поэты Ахматова и Цветаева. ИМан... Ман... И Мандель... в общем этот... ты его знаешь.
– Это ты тоже в газете прочитал?
Он кивнул.
– В своей районной? Он снова кивнул...
– А теперь спать.
Тут он как-то странно затряс головой во все стороны, но я так понял, что он хочет посидеть еще.
– А ты можешь прочесть наизусть хоть одно стихотворение Мандельштама?
Секунд пять реакции не было никакой, потом последовал глубокий вздох и снова странное мотание головы во все стороны.
– Тогдаспать.
Снова пауза в пять секунд. Снова глубокий вздох, а потом Тишкин попытался подняться, я его подхватил, протащил в комнату и бросил на диван.
Затем я вернулся на кухню и сел за стол. Прямо передо мной стоял портфель Тишкина, но я не спешил. Впереди была целая ночь... А для начала я поставил чайник.
Дни тянулись мучительно. Шадрин надолго уходил из дома и слонялся по городу. Он разыскал «общество обманутых вкладчиков», у которых, как это обычно случается с мало-мальски объединенными чем-либо людьми, появились свои председатели, секретари, непонятно откуда взялось помещение для собраний и даже телефон. «Общество» регулярно проводило собрания и информировало остальную массу о предпринимаемых мерах, и люди, которым никак не хотелось признаться, что они остались в дураках, что их просто-напросто обвели вокруг пальца, узнавая разные сообщения о новых президентских указах или какие-нибудь слухи, что вот-де кому-то где-то что-то вернули, непременно толковали все в свою пользу и получали облегчение... Шадрин знал, что деньги не вернутся. Теперь ему казалось, что он знал это с самого начала, с того момента, как положил их в банк или еще раньше, как только ему взбрела в голову идея с продажей квартиры. Поэтому ко всем действиям «общества» Шадрин оставался безучастен, он просто убивал время, потому что возвращаться в «дом с железной крышей» было тягостно. Он перестал обедать, говорил бабе Вере, что ест в городе, а за вечерним чаем съедал несколько сушек. Баба Вера чувствовала, что Шадрин лжет, и по его осунувшемуся виду и виноватым глазам понимала, что дела его идут неважно, и, может, совсем не идут. «Наверное, – думала она, – он надеялся, что за роман ему заплатят? А тут, видишь, время-то какое...» При этом она как-то отдаленно вспоминала, что Шадрин задолжал ей за полтора месяца и догадывалась, что виноватится он как раз из-за того, что не может вернуть долга, и сама начинала переживать и чувствовать себя в чем-то виноватой. Она придумала завести разговор, что вот, мол, тяжело ей будет в эту весну сажать картошку, и что, дескать, онабынаняла – или как это получше сказать? – Шадрина на это дело. Она старалась говорить как можно мягче и немножко – на всякий случай – в шутливом тоне, но Шадрин вспыхнул, опустил ниже глаза, и вскоре ушел из-за стола, а она потом ночью не могла уснуть и все казнила себя за это, казавшееся ей теперь дурацким, предложение. Ей стало казаться, что говорила она не с шуткой, а с ехидством, и вовсе не мягко, а стараясь угодить, словно подавала милостыню, и на это, как ей показалось, Шадрин обиделся. «Конечно, – рассуждала бабка, – не надо было мне, как милостыню-то, надо было так, мол, и так, мил человек, построже, раз платить нечем, так поработай... А так вот обидела-то паренька, старая».
Шадрин же опустил глаза не от того, что ему стало стыдно, когда баба Вера напомнила ему про долг и как милостыню (он прекрасно понимал, что бабка всю жизнь сама сажала картошку и справилась бы и в этот раз, тем более, что сажала-то она немного) подает ему возможность рассчитаться с ней, но он опустил голову, от ощущения той неумолимой силы, которая упорно уводила его от мирского потока, и он только не знал, благо ли несет эта сила или нет... Первая милостыня оказалась завуалированной, приглушенной подходящими обстоятельствами, но суть не менялась, и ее нужно было принимать или нет. В принципе, Шадрину было уже – как с банком – известно, чем это кончится. И первый шаг все равно пришлось бы делать, и может, хорошо, что первая милостыня оказывалась не такой унизительной и даже требовала определенного труда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу