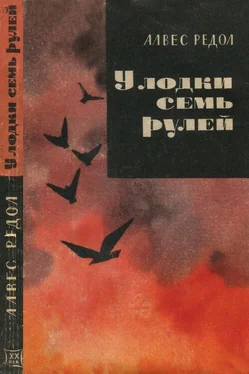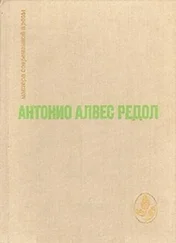— Мойся, мойся, — проговорил я с напускным безразличием. — Или, может, ты меня стесняешься? С чего бы это?
— Не хотел я, чтоб сеньор увидал, как меня этот тип из Севильи изукрасил…
— Ну, меня татуировкой не удивишь. Бывают даже очень искусные. И твоя вроде отлично сделана… — мягко настаивал я.
— Не покажу. Добро бы я сам напросился, так ведь нет…
Руки его больше не дрожали, он стоял свободно, но все так же, не отходя от стены.
Немного погодя он заговорил снова:
— В тот день пришлось мне расстрелять одного пленного, все тело у него было сплошь в татуировке, будто марками обклеено, ребят наших это очень позабавило. Тут этот парень из Севильи и похвались: мол, он может наколоть не хуже — кто хочет? А незадолго до того мы с этим парнем девчонку одну не поделили, — я-то обиды не помнил, да и схватились мы с ним тогда не по злобе, а больше так, от скуки. И вот ведь простота-то моя — вечно я с ней впросак попадаю, — возьми да и попроси я его наколоть мне на руке женщину. «Ладно, — это он мне, — только давай я тебе еще на спине имя твое наколю». Я, дурак, и согласись. Не один день он со мной возился — и что бы вы думали? Наколол мне на спине: «Шакал», а под этим еще череп изобразил.
— Ну, а что ты так негодуешь? — возразил я. — Ты ведь сам говорил, что все легионеры — охотники за смертью. Чего ж ты уж так на товарища-то своего напустился?
— Да ведь он, каналья, в отместку меня так отделал. А за что? А теперь, понимаете, выйду я отсюда и женюсь на моей Нене, ну как я ей про этот череп объясню? «Шакал» еще куда ни шло — кличка и кличка. А череп это вам не что-нибудь — смерть. Вот и поди тут растолкуй, откуда у тебя на спине смерть взялась. Я уж придумал, что, как будем мы с ней в первую ночь спать ложиться, я огонь-то притушу. Ну, а утром, как проснется она, тогда что? Что ж мне, вечно из постели от нее бегом удирать? Положим, один раз я еще могу выждать, покуда она раньше меня подымется, а дальше как? Таись не таись, беспременно этот проклятый череп в глаза ей кинется… И чтоб вы, сеньор, его увидели — не хотел я этого…
— Да почему?
— Потому, сеньор, что вы можете подумать, будто я там, на войне, был самой что ни на есть распоследней швалью. А ведь не так это. Ведь это он в отместку, клянусь вам, по злобе он меня так размалевал. Его счастье, что он там же на засаду нарвался… А то б я ему припомнил, посчитался бы с ним… Я такого не забываю, да и не годится такое забывать. Я вроде вам говорил, — да, точно, говорил, — мне еще с тем толстяком, что у меня отцовы часы отнял да приказал волосы наголо состричь, с ним еще поквитаться нужно. Он сам-то плешивый был, смекнули? А у меня кудри были богатейшие, хоть и рыжие, как огонь. Как-то раз позвал он меня к себе наверх и давай меня легонько так по волосам трепать. Я думаю, забавляется, мол, от нечего делать. А он, вышло, неспроста действовал. Выдумал, что, дескать, вши у меня, и приказал волосы снять.
Лицо Сидро побагровело от гнева.
— Ничего, заплатит он мне за все сполна, головой ручаюсь. И не совестно людям злобиться так! Но теперь уж мой черед. Получит и за себя, и за этого парня, что меня на всю жизнь клейменым сделал. Ведь теперь, покуда жив, мне от всех позор принимать за череп этот проклятый!
— Но ты же в самом деле несешь людям смерть! Вот что ужасно! — вырвалось у меня.
Он опешил. Руки его затряслись от ярости.
— А что еще солдату делать на войне? Там ведь только и дела, что убивать. Разве я от вас что скрываю, сеньор? Обелить себя не стараюсь.
— Но у человека остается право умереть, если его вынуждают перестать быть человеком!
— Я не понимаю, о чем вы говорите, сеньор! — закричал он в отчаянии.
Я испугался, что этим разговором оттолкну его от себя и не смогу пройти с ним до конца по дорогам его жизни. Наша невольная близость была мне неприятна, но вместе с тем я чувствовал какую-то острую потребность проследить, каким образом из простого, обыкновенного парня сделали хищного зверя.
— Не горячись, приятель. Ты ведь знаешь, я хочу тебе добра. Просто я думаю, что вряд ли стоит пускать в ход «Мариану» каждый раз, когда тебе что-нибудь не по нутру.
— Что правда, то правда, — отозвался он, немного успокоившись. — А только, сеньор, ежели б вы знали, какое во мне бешенство клокочет… Бешенство и страх, вроде больше и чувств у меня никаких нет. И одному жутко, и с людьми боязно: ну, как допытываться начнут про мои дела… А я жить хочу, как бешеный хочу жить, все от жизни взять хочу…
Мне стало жаль его. Я подошел к нему. Он закрыл лицо руками.
Читать дальше