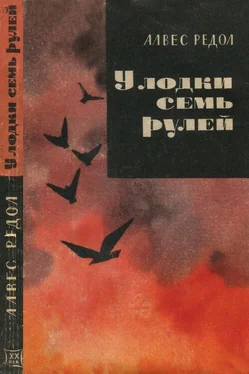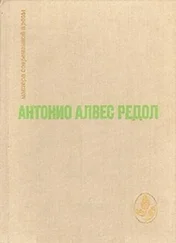— Ах ты сволочь… Ах ты сволочь!.. — Не пойму, откуда силы у меня взялись так кричать: я уж совсем почти без памяти был.
Я кричал и плакал, кричал и руки себе грыз в звериной тоске; мой товарищ Клиши, мой капрал, лежал мертвый рядом со мной, мой верный товарищ, капрал Вало. Разрывная пуля угодила ему прямо в рот и все лицо снесла напрочь; голова у него стала как взрезанный арбуз — огромный, кроваво-красный.
Попал я в госпиталь и с той поры больше не верю, что на войне человек соблюсти себя может. С того дня пошло во мне дальше ломаться все, что прежде надломано было. И вконец сломалось. Что потом творил, тому оправдания не ищу: я приказы выполнял, и не солдатское это дело — обсуждать приказ.
Мой товарищ Клиши… Я знаю, он из-за меня погиб. Никогда я этого не забуду, до конца дней моих. И когда я о нем плачу, не думайте, что это плачет Шакал, который людей убивает, а потом над ними слезы льет, нет… Тогда не я, а совсем другой человек во мне о своем товарище плачет, о лучшем друге, какого только я повстречал в своей жизни.
Солдат в тылу на отдыхе совсем другой человек. Только, видать, для этого еще нужно, чтоб нога у тебя не была продырявлена, как со мной это приключилось, а еще нужней, чтоб не лежало на душе того, что сильней любой раны ноет, чтоб не рвалось у солдата сердце о погибшем товарище, о лучшем друге, что погиб, спасая его от смерти.
Два месяца провалялся я на госпитальной койке, а потом еще около того болтался в тылу, и за это время много всякого со мной случалось, да нынче как-то не припомню — верно, и припоминать незачем.
Солдаты и в тылу погибают иной раз почище, чем на передовой, как случилось однажды в арабской деревне. Расположились мы там, и приказал командир выкатить на площадь бочку с вином, литров эдак на пятьсот. Ну, понятное дело, перепились все в дымину, и двое наших солдат мигом схватились из-за Фатимы, хорошенькой марокканочки — они, надо сказать, премиленькие. Дошло дело до ножей — раз, другой, и вот уже один лежит, и в груди у него нож по рукоятку.
Нож всадил солдат-итальянец, а итальянцев у нас недолюбливали, все из-за того, что уж больно девчонки на них вешались. Смеялись, что, мол, от возни с девчонками, они тают, как мороженое, а итальянцам насмешки не слишком были по нраву. И вот теперь вмиг все на них ополчились; французы и испанцы, не долго думая, схватились за оружие и в перестрелке столько народу положили, что порой после боя меньше трупов оставалось. Худо пришлось итальянцам, ни один не ушел от расправы; я сам, собственными глазами видел, как одного, еще живого, привязали к хвосту осла, и тот потащил его волоком, колотя о мостовую и стены домов, покуда бедняга не превратился в бесформенный кровавый куль. Я его знал, звали его Тино; он носил лихо закрученные усики и все пел свои романсы — так вроде они у них называются, да, точно, романсы, нам-то они не слишком нравились. Я в тот раз держался в сторонке и в драку не ввязывался, да и не пил почти — я ведь до вина небольшой охотник.
Набежали тут офицеры, сержанты, но в солдат словно бес вселился: они на начальство ноль внимания и знай осаждают дом, где спрятались двое итальянцев и румын, что был с ними заодно. После дом подожгли, чтоб, значит, выкурить их оттуда, и началась тут охота — точь-в-точь как мы на арабов охотились. Идешь, бывало, в патруле, захочется позабавиться, — сейчас кто-нибудь из солдат как гаркнет во всю глотку, ну, ясное дело, какой-нибудь араб с перепугу бежать кинется, а раз бежит, значит, совесть нечиста, и тогда пускаемся мы за ним вдогонку, травим, словно зайца, и как загоним, тут ему пулю — и конец. Без этого нельзя было: отпустишь, он еще начальству нажалуется, а нам нагорит. А мертвого обвинить ничего не стоит: докладываем, что, мол, убит при попытке к бегству, а задержан, дескать, по подозрению, кричал что-то про Францию и Легион, видать, агитировать был подослан. И все тут. Что начальству остается делать, как не поверить? Мертвый-то, он ничего доказать не может.
И подумать только, что такую охоту легионеры учинили на своих же товарищей, и набежавшим сержантам пришлось взяться за пулеметы и дать несколько очередей, чтобы отрезвить буйные головы.
И таким манером солдаты погибали, да и арабы подстерегали наших ребят, где только могли, больше всего в «веселых» кварталах, куда солдаты забредали в погоне за девушками. Или просто пропадали ни за грош, вроде как погиб у нас один цыган, Хуанито; он в одном доме откупорил большущий кувшин с вином, сунул туда голову и до того налакался, что после захотел голову назад вытащить, да не тут-то было, так и задохнулся. А ведь был удалец, я, пожалуй, больше таких цыган на войне и не видывал; две медали имел, а вот, поди ж ты, в красном вине утоп. Опять же, видать, против своей судьбы не попрешь: что уж кому на роду написано. Все потешались над покойником, больно уж забавно это вышло — помереть в кувшине с вином. Были и такие, что сочли его смерть завидной, и один испанец даже песню о нем сложил. Я ее не запомнил, но ребят наших она здорово развеселила.
Читать дальше