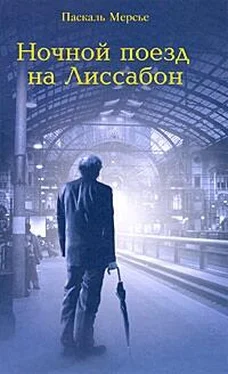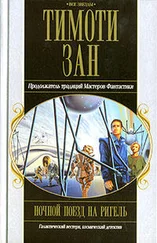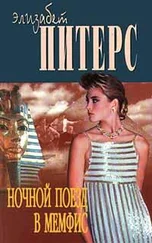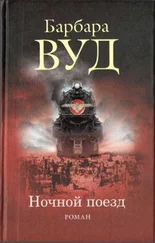— процитировал он на память.
Мария Жуан прикрыла глаза. Потрескавшиеся губы, на которых еще остались следы лихорадки, едва приметно задрожали. Она поглубже расположилась в кресле, обхватила руками колени, снова разжала руки. Создалось впечатление, что она не знает, куда их деть. Веки с синеватыми прожилками подрагивали. Постепенно дыхание успокоилось. Она открыла глаза.
— Вы услышали это и сбежали из гимназии?
— Я сбежал из гимназии и услышал это.
Она улыбнулась.
«Она посмотрела на меня и одарила улыбкой, прилетевшей из далекой степи жизни, проживаемой с открытыми глазами»,
— написал о ней судья Праду в письме.
— Хорошо. Но вы нашли созвучие с собой. Настолько, что захотели узнать его получше. Как вы нашли меня?
Когда Грегориус закончил свою историю, она внимательно посмотрела на него.
— Я ничего не знала о книге. Могу я ее посмотреть?
Она раскрыла томик, остановила взгляд на портрете, и будто удвоенная сила тяжести еще глубже вдавила ее в кресло. За веками с синими прожилками, почти прозрачными, двигались глазные яблоки. Она собралась, открыла глаза и впилась в давнюю фотографию. Медленно она провела по ней морщинистой рукой, раз и еще раз. Потом уперлась ладонями в колени, поднялась и молча вышла.
Грегориус взял томик и посмотрел на портрет. Ему вспомнился момент, когда он сидел в уличном кафе на Бубенбергплац и рассматривал его в первый раз. В его ушах зазвучал голос Праду со старой магнитофонной ленты.
— И все-таки пришлось возвратиться туда, — вздохнула Мария Жуан, вернувшись и снова усаживаясь в кресло. — «Когда речь идет о душе, — говорил он, — что мы имеем в руках? Почти ничего».
За короткое время она собралась с мыслями, привела в порядок лицо, заколола выбившиеся прядки. Теперь она спокойно взяла томик на раскрытой странице.
— Амадеу.
В ее устах имя прозвучало иначе, чем произносили его остальные. Это было совершенно другое имя, которое не могло принадлежать тому же самому человеку.
— Он лежал такой бледный и тихий, такой немыслимо тихий. Возможно, потому, что он сам был живой язык. Я не могла, не хотела поверить, что больше никогда он не произнесет ни слова. Никогда. Кровь из разорвавшегося сосуда унесла все слова. Все . Кровавый прорыв, сносящий плотину со смертельной, разрушительной силой. Я медсестра и видела много смертей. Но ни одна не казалась мне такой жестокой. Она была чем-то, что просто никогда не должно было случиться . Что-то, что было совершенно невыносимым. Невыносимым.
Несмотря на шум улицы за окном, тишина наполнила комнату.
— Я вижу его как наяву, когда он пришел ко мне с заключением врачей. Тонкий желтоватый конверт. Он пошел в больницу из-за непрекращавшихся головных болей и приступов головокружения. Он боялся, что это опухоль. Ангиография, барий. Ничего. Только аневризма. «С этим вы можете дожить до ста!» — успокаивал невролог. Но Амадеу стал мертвенно-бледным. «Понимаешь, она может в любой момент прорваться, в любой момент! Как мне жить с этой часовой бомбой в мозгу?» — он не мог успокоиться.
— Он снял со стены в кабинете картинку с изображением мозга, — сказал Грегориус.
— Да, знаю. Это первое, что он сделал. Можно только догадываться, чего ему это стоило, ведь он бесконечно восторгался человеческим мозгом и его возможностями. «Доказательство существования Бога, — не уставал повторять он. — Это и есть доказательство. Только вот Бога не существует». А теперь для него началась жизнь, в которой не было места размышлениям о мозге. Любой врачебный случай, мало-мальски связанный с мозгом, он тут же передавал специалистам.
Грегориусу вспомнилась увесистая книга о головном мозге, лежавшая в комнате Праду поверх стопки. «О сérebro, sempre о сérebro, — услышал он голос Адрианы. — Porquê não disseste nada?»
— Никто, кроме меня, об этом не знал. И Адриана не знала. И Хорхе. — В ее голосе слышалась лишь толика гордости, но слышалась. — Позже мы редко говорили об этом. Да и что там было говорить. Но угроза обширного кровоизлияния в мозгу тенью легла на последние семь лет его жизни. Бывали моменты, когда он уже желал, чтобы это наконец произошло. Чтобы избавиться от страха. — Она посмотрела на Грегориуса. — Идемте со мной.
Мария Жуан пошла вперед него в кухню. Из верхнего ящика шкафа вынула большую плоскую шкатулку из лакированного дерева с инкрустацией на крышке и пригласила присесть рядом за стол.
— Многие из его записей были сделаны у меня на кухне. Кухня была другой, но этот стол оттуда. «То, что я пишу, может быть опасно, как бомба, — как-то раз сказал он и больше не хотел об этом говорить. — Писательство молчаливо». Временами он просиживал ночи напролет и утром, не выспавшись, шел принимать больных. Он немилосердно подрывал свое здоровье. Адриана ненавидела это его варварское растрачивание сил. Она ненавидела все, что было связано со мной. «Спасибо, — говорил он уходя. — Я у тебя как в тихой гавани». Эти записи всегда хранились здесь. Здесь им самое место.
Читать дальше