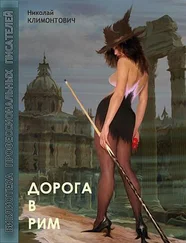В завершение сказочного сюжета — как женщина она оказалась оценена и вознаграждена. Через три года сидения в общежитии, как сказали бы прежде, составила блестящую партию. Ее мужем стал некогда фрондировавший художник, к моменту встречи с ней стоявший на пороге если не богатства, то во всяком случае полного достатка. Он разошелся с женой-художницей ради этой девочки с задворок империи, дочери работницы мясо-молочного комбината. Она поселилась в большой квартире на улице Горького, рядом с площадью Маяковского, в ее распоряжении оказался загородный дом, потому что муж был не просто удачливым живописцем, но и в придачу сыном высокопоставленного генерала ракетных войск. У нее сразу прибавилось знакомых, до сих пор она варилась в актерской среде.
В кругу дам в таких случаях говорят: «У нее все было». И судачат: «Чего ей не хватало?»… Но это риторика: всем известно, что всегда чего-нибудь да не хватает. Чаще всего главного.
Его уроки
С самого начала он показался ей рубахой-парнем, широким и щедрым, окруженным такими же безалаберными друзьями, — и невероятно талантливым. Позже она поняла, что расхристанность его — внешняя, сочетающаяся с недюжинной образованностью, чем она сама никак не могла похвастаться, и к тому же с практичностью, даром менеджмента, способностью удачно пристроить собственную художественную продукцию. Вряд ли ее смущало, что снобы числили его творчество по разряду кича. Один из его натюрмортов она почитала семейным талисманом — на нем была изображена, метра полтора на полтора, тронутая тленом исполинская головка чеснока. Она горевала, когда муж не удержался от выгодного предложения и картину продал. «Напишу тебе другую», — утешал, но сдержать обещания не успел.
Чего она, скорее всего, понимать не могла, так это того, сколько в нем было типичного для советского номенклатурного отпрыска, к тому ж воспитанного в военной среде. Помимо генетической крестьянской сметки, свойственной и ей самой, была в нем своего рода упадочность, какую порождает слишком скорый социальный рост, своего рода кессонная болезнь чрезмерно быстрого всплывания на поверхность. Это декадентство, доморощенное лотреамонство, так сказать, сказывалось в нем особенно сильно в молодости — в тяге к краю, в попытках заглянуть в бездну, понюхать, перефразируя Вик. Ерофеева, «украинских цветов зла»… Его высокопоставленный отец, пока семья жила еще в Киеве, расхлебывал не однажды последствия сыновних опасных эскапад.
И здесь очень важный момент: свою интеллектуально неискушенную молодую жену (он искренне полагал, что умрет раньше, потому что старше на целых восемь лет) он тоже научил чему-то в этом роде, пел ей свои «песни Мальдорора». Постулатом было то, что художество, творчество всегда и с необходимостью — взгляд в бездну. Она оказалась идеальной слушательницей подобных проповедей. Помимо природной нервности, ей ли, служительнице мхатовской Мельпомены, было не затвердить прописной пример хоть Михаила Чехова, который три года не выходил на сцену, пребывая в глубокой депрессии, пьянствуя и неоднократно пытаясь покончить с собой. Но каков результат!
Он после ее смерти вспоминал: «С ней никогда не было страшно. Вдвоем. Я боялся летать, но с ней было спокойно: вдвоем и свалимся. И прекрасно». И еще: «Мне кажется, что если бы мы с Леной не встретились, то, может быть, давно уже издохли бы». То есть установка, как говорят в театре, всегда присутствовала — на смертельный «полет». Ему казалось, что в этом полете они поддерживают друг друга. Кажется, так оно и было — до поры до времени.
Никто не напомнил ей вовремя, что многие блистательные художники умерли в своей постели. Не нашлось никого объяснить, что пресловутое «священное безумие», если и присуще актерской профессии, то, продолженное в жизни, есть вещь невыносимая и, главное, пошловатая и уже по одному этому — не вполне профессиональная. Это, увы, неизбежный, но всего лишь соблазн роста — один среди многих, подстерегающих художника, но всего лишь соблазн. Так шаман входит в транс в нужную минуту, а в остальное время живет, как и все соплеменники. Кажется, он это понял раньше, чем она — «жить как соплеменники» начисто отказывавшаяся.
Репетируя Настасью Филипповну в «Бесноватой» по «Идиоту», она повторяла: «Мне даже страшно. Я так на нее похожа!». Автором пьесы был я, и для пущей «театральности» в последнем акте заставлял уже зарезанную Рогожиным героиню произносить монолог. Она не хотела это играть. Она наивно спрашивала: «Нет, ты скажи, умерла Настасья Филипповна или не умерла?». Она не верила в условность смерти и, оказалось, была права.
Читать дальше