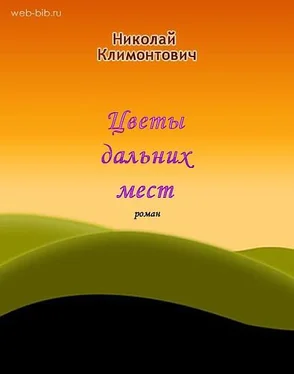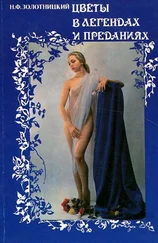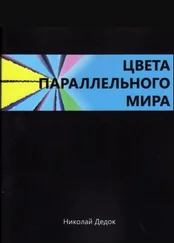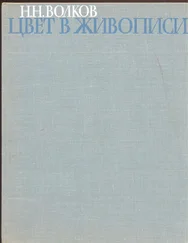— Воды ему не осталось, ишь! — несла на все корки. — И без воды хорош. Что тебе мыть-то, нечего тебе мыть…
Молча и отвертывая влажное лицо, Володя обогнул парня, ловившего ртом по-рыбьи, немого от обиды, миновал повариху, любезно и сыро улыбавшуюся ему, тряхнул мокрыми редкими ниточками волос и исчез в доме. Тут и тетя Маша успокоилась. Перевернула ведро кверху дном, сцедила жидкие остатки парню под ноги, махнула хвостом и ушла.
Парень остался совсем один.
Ветер дул вполне ощутимо, но во рту стало сухо и душно красному лицу. Смех еще сочился из дома. Ветер дул, он и был причиной неясной перемены, какую учуял парень раньше во всем вокруг: неподвижный и застойный прежде, воздух двинулся. Ветер дул с севера. Парень подставил горевшее, словно всухую натерли вафельным полотенцем, лицо, прикрыл прослезившиеся глаза. И пошел навстречу, глотая, давясь, сжимая кулаки.
Пять минут он шел не останавливаясь. Все быстрей. Все изломанней, точно погони боялся. Одно плечо выставил вперед углом. Но оглянулся.
Никто не хватился его, никто не звал.
Кошара стояла на север слепой стеной, увидеть долговязую фигуру на краю свищеватого, в норах и водомоинах, поля из дома не могли.
Парень стоял.
Рубаха выбилась из штанов, полоскалась, то надувалась пузырем, то лопалась и обвисала. Подслеповатые глаза высохли, но воспалились и уменьшились. Кожа на лице натянулась, ветер приподнял волосы, вид стал совсем шальной.
Парень смотрел в сторону кошары. Но видел он, должно быть, лишь смутный силуэт. Белесый кубик, больше ничего… Пару раз он глотнул слюну. Колебался, щурился, шептал неслышно, обметанными губами. Потом двинулся дальше.
Фигура его стала уменьшаться.
Ветер замотал штаны, и ноги истончились. Стало смеркаться, и туловище сплющилось. Он маячил некоторое время, издали похожий на птицу, тем больше, что шел кособоко, подбито, припадая. И исчез за холмом.
Впрочем, о сумерках не откажу себе в удовольствии сказать отдельно, они в здешних местах особенно хороши.
Взгляните-ка: теплые горы, виднеющиеся на горизонте бородкой английского ключа, поскучнели, будто наизнанку вывернулись. Спины буланых дальних и ближних гряд, утоптанная котловина колодца, песочный шифер въезда на холм — все обернулось точно давним пергаментом, в выдолбленные добела колеи и следы и вовсе желты. Пустыня стала черепаховой, как гренок, воздух же налился нежданно-нежной жиденькой акварелью.
Посмуглело небо. Застирано-полотняное смягчилось до кремового. На западе проступили бледные рубцы. Солнце клонится и растет. Крепкие, сбитые облачка с припекшимися сподками, с рыжими взвихренными верхушками, с русыми завитками на мордочках зажмурились и плывут. Между тем чудится, будто само небо, исполосованное близким закатом, стягивается за край, под ним на востоке раскрывается следующий, шелково-бусый, подол.
Тени длинятся. Вересковые отсветы ходят по белесым стенам. Снутри же дом точно пеплом выстлали.
Обычно ламп не зажигали в этот час, хоть и томителен. Занимались кто чем.
Шофер спал чаще всего. С обеда дожидаться ужина укладывался босой поверх одеяла, приоткрывал рот, поекивал, желтая слеза от угла губ близилась к оловянной подушке. Он крючился, точно по давней привычке и во сне тужился занимать меньше места.
Володя сидел здесь же, писал.
От вспыхнувшей на окне марлечки через столовую в прогал двери шло сквозное свечение. Ржавые струйки падали на прямоугольник письма. Володя ворочал головой, будто шее тесно, вслушивался, листок разрисовывал медленно, всякий значок отдельно, точно не буковки выводя, — ноты.
Свет вырезывал и обводил абрис Мишиной головы. Он бывал у стола. Кейфовал с послеобеденной сигаретой над кружкой остывшего чая. Табурет отставит от стола, руки олокотит, пальцы запрячет в волосах, покачивается, покуривает, сигарета свисает на губах. Смотрит в одну точку на стене. Серые клубы неспешно разматываются над ним, вся фигура говорит, что он сейчас далеко.
Прежде гладкая, стена теперь в живых завитках и пятнах, точно в свежих мазках масляных, но Миша вряд ли видит. Зато слышно, как в его желудке мягко, вкрадчиво шевелилась перевариваемая им пища — куда-то засасывается, из чего-то перетекает.
А вокруг тихо. Мухи с огорчения, что дивный душный день прошел, от назойливого зуда сползли к пианиссимо. Замерли на потолке, переходят по стенам, только две, слепившись, жужжат на липкой клеенке.
Читать дальше