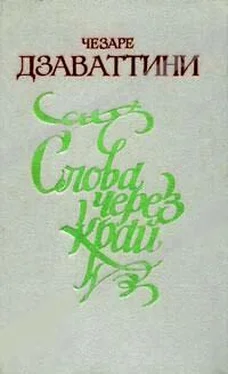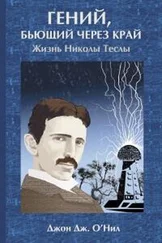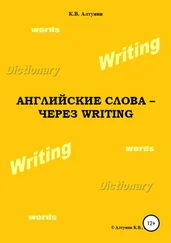Многие в моих краях говорят красиво. Например, один лудзарец объяснял на диалекте, какое время дня самое прекрасное в Лудзаре: это когда он зимою выходит из тепла (он служащий в муниципалитете), и ощущение холода доставляет ему наслаждение, которое он сам затрудняется объяснить.
«Я пробегаю мелкими шажками метров десять — пятнадцать, — говорит он, — а у меня над головой зажигаются уличные фонари. Я приветствую встречных коротким, отрывистым „чао!“ — так здороваешься, забегая под портики во время неожиданно хлынувшего ливня».
А для меня самое прекрасное время в Лудзаре — полдень и предзакатный час: почти полная тишина, царившая на площади, вдруг взрывается громкими велосипедными звонками; трезвон длится с четверть часа — это окончившие работу норовят проехать через площадь, только бы лишний раз ею полюбоваться; девушки на велосипедах выкатывают из дому и несутся через все селение, громко сигналя, чтобы обратить на себя внимание, и парни тоже вскакивают на велосипеды и мчатся вслед за ними.
Прежде я жил только воспоминаниями дострэндовских времен, поры, когда я носился как дикий конь и все удивлялся, как это люди не шарахаются в сторону при моем появлении. Мне было пять лет, и я слышал, как оглушительно грохочет булыжная мостовая родного селения под подошвами моих сандалий. Ворота моего дома были овиты побегами трилистника, и цветы казались светящимися капельками. Их можно сосать, потому что они сладкие. Я всегда так радовался этим цветам: пусть мой отец по уши в долгах, но мы никогда не будем голодать, потому что у нас полно трилистника.
Когда я был церковным служкой и нес во время крестного хода огромную свечу, едва ли не больше меня ростом, то смотрел на ее желтое пламя с синевой возле фитиля, боясь вздохнуть, как бы не погасить пламя, но колебания воздуха удлиняли его, оно становилось все уже и уже и то совсем исчезало, то вдруг вновь появлялось перед глазами, круглое, как золотая монетка. Помню огоньки продвигались вперед под кваканье лягушек в необозримой тьме долины, словно плыли по темной водной глади. Неожиданно луч выхватывал из темноты девичью головку, и я видел черную копну волос в ореоле света… А в церкви все склоняли головы при звуке колокольчика и потом снова поднимали при более протяжном звоне… волна воздуха — это молящиеся переводили дыхание — достигала алтаря, шевеля кружево моей накидки. И кусты боярышника — надо руками схватиться за ствол, сильно потрясти его, и красные ягоды сразу же упадут на землю, а сквозь ветви увидишь клочки неба, и кажется, что оно тут — в листве; опять тряхнешь куст, и все эти светлые блики вновь сольются воедино, как вода, а через мгновение опять примут форму крестов, многоугольников, кругов и других точно очерченных световых фигур…
Воды По лизали гребни дамб, казалось, поднимись река еще на два пальца, и дома потонут в этой жиже цвета кофе с молоком — вода действительно походила на кофе с молоком, — и водовороты, эти винтовые лесенки, словно приглашали спуститься и поглядеть, что там прячется на дне реки. Короткий поезд Парма — Лудзара почти касался боками кладбищенских оград, таких низеньких, что из-за них видны были женские головы в черных платочках… А еще помню лес: я бежал из него сломя голову, потому что ощущал на лице липкие нити паутины, крепко сжав губы, чтобы не вдохнуть тучами роящихся вокруг мелких мушек… Солнце первого июльского воскресенья — дня летней ярмарки — било в спину моим родственникам, переливаясь на шелку их жилетов; они в ожидании настоящего обеда ели стоя маленькие пельмени со сковородки, запивая их вином.
Ну, хватит воспоминаний. Нет, вот еще одно: вспоминаю своего деда Аугусто, который отправляется с собакой искать трюфели; мы идем — он впереди, я сзади — вдоль невысокой дамбы, и дедушка разговаривает с собакой, а потом опускается на колени возле ивы и втыкает палку, отваливая в сторону блестящие ломти земли — с великой осторожностью, чтобы не повредить грибницу, если она там окажется, но при этом разрубает надвое дождевого червя; собака, принюхиваясь, тычется носом в ямку, но дедушка отводит ее морду — так, мать ласково отстраняет ребенка от котла с дымящейся полентой… И еще: отблески каминного пламени падают на лицо бабушки, а она сует кукурузные початки в золу, где они исчезают, а потом появляются вновь — покрытые серой пылью и распухшие, негромким веселым потрескиванием приветствуя приход нового дня.
Хватит, действительно хватит воспоминаний. Мой друг Бруно своим письмом возвращает меня к действительности: «Дорогой Чезаре, такое селение, как наше, очень остро ставит проблему социальных отношений… Заметил ли ты, что наша молодежь красивая и сильная, но ее совсем ненадолго хватает?»
Читать дальше