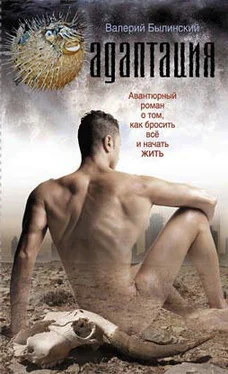– Рашенс… – кивая головой, сказала выглядывающая из-за портьеры черная медуза и улыбнулась.
– Рашенс? – повернулся к ней Иса.
– Рашенс, – кривя лицо в усталой гримасе, сказал появившийся в стрип-комнате еще один человек, полный, лысоватый и по виду совсем не похожий на араба – вероятно, владелец заведения. – Рашенс, – сказал он охранникам, повернулся к нам и брезгливо махнул рукой в сторону двери:
– Рашенс, гоу хоум!
На улице я выпятил грудь и забарабанил по ней кулаками, трубя как Кинг-Конг. Лиза, извиваясь всем телом, тряся волосами и широко расставляя ноги, начала танцевать. Проходящие мимо туристы с улыбками восхищения смотрели на нас, одна женщина зааплодировала. Арабы-зазывалы с мрачноватыми лицами улыбались.
Ночь. Мы идем через освещенные парижские улицы, опускаемся на плетеные стулья уличных кафе, пьем прохладное вино, смотрим на пышные, как застывший салют, звезды над головой, поднимаемся и плывем дальше, вплываем, как бабочки, на желтый свет освещенных залов и комнатушек, пьем холодное вино с белым хрустящим хлебом, пьем горячий кофе и запиваем его ледяной водой. Бабочки живут сутки или несколько дней, в зависимости от своего рода и окружающих их опасностей. Человек живет шестьдесят – семьдесят лет. И бабочки, и мы летим на свет радости и приключений. Если бы каждый день длился так же долго, как сейчас, или как в детстве. Бессмертие – это, вероятно, когда всю жизнь, каждый день и час ты влюблен. Отбираемые у тебя кусочки счастья – как отваливающиеся кирпичи со стены дома, как листья, опадающие с дерева, – приближают тебя к смерти.
На рассвете мы сидим на берегу Сены рядом с седым бродягой, пьем утренний кофе в бумажных стаканчиках из «Макдоналдса». Бродяга похож на Хемингуэя. Мы говорим с ним, не понимая ни слова, о вечности и любви. И мы, и этот старик, и ночные отблески Сены, и танцующие медузы в подвале, и арабы, владельцы медуз, – все это вместе с миром кажется разбросанными в результате какого-то гигантского взрыва слов. Да, именно слов, которые были сложены когда-то вместе и представляли собой идеальную книгу. Книгу, которую в результате жестокого террористического акта однажды взорвали – и слова из нее разлетелись миллиардами осколков по миру. Теперь мы ходим, собираем эти осколки, пытаемся сложить пазл жизни вновь. Кому-то это удается время от времени – и он восстанавливает часть книги. Тогда начинаются революции, войны, болезни, бумы рождаемости, расцветы и закаты искусства, строительство и запустение монастырей, создание и забвение книг. Когда-то, вероятно, пазл полностью восстановят. Но писать тогда ничего уже будет не нужно. Потому что, по сути, все хорошие книги пишутся для того, чтобы преодолевать зло.
Войдя в семь утра в гостиницу, мы вошли друг в друга и уснули: она на мне, я под ней, потом повернулись на бок и проспали все так же, слитым воедино человеком, до двух часов дня.
Надо быть честным.
На следующий день мы уехали на поезде в Амстердам.
Надо быть честным. Есть и другие книги, пишущиеся – сознательно или нет – для того, чтобы проповедовать зло. А бывает, что обе цели – добро и зло – слиты в одной книге воедино, словно человек с человеком. Что победит, а? Что окажется сильнее? Доброту труднее выписать, вычленив из тонкого и рафинированного, воспитанного и обладающим неплохим вкусом зла. Доброту лучше выписывать не в словах на бумаге, а в поступках. То есть вообще не писать. А у меня? Что делать?
Я помолюсь… Сейчас. Простите, понимаю, что это литературно. Но литературы вообще нет. Можете не читать.
Все, я молюсь.
Господи, прости меня, грешного человека. Прости, пожалуйста, даже если Тебя и нет. Прости, если я ошибаюсь и все-таки втискиваю, вливаю нечто отвратительное в свои слова. Господи, дай мне послабление на Своем Суде, я старался, пойми. Я ведь действительно хотел и хочу, чтобы было хорошо. Чтобы тому, кто прочтет написанные мной слова, стало чуточку лучше. Чтобы и я сам сделал что-то стоящее. Я делал все честно, я старался. Гордыня в том, что я писал, была и есть. Но я стараюсь выдавливать ее из себя, как господина. Человеку ведь не только раба надо выдавливать из себя. И рабство, и господство – лишнее, наносное, прилепленное с обоих концов человека. Господи, Ты меня создал и я Твое, не свое. Я многого не знаю, но чувствую. Во многом сомневаюсь. Но чувствую иногда точно, что хорошо и что плохо. Для себя хотя бы чувствую… Прости меня и пойми. Пожалуйста, пойми. Сейчас я помолюсь уже молча. Потому что слова стали мешаться и становиться лукавыми, словно я пытаюсь не опозориться, выглядеть достойным и сильным. Это и рабство и господство одновременно. Ладно, я понял. Каюсь. После этого романа я пойду на исповедь, обещаю. Веры во мне мало, но она есть. Я обещаю. Все. Даже если я сейчас нажму на «delete», мои слова уже прочитаны, они никуда не денутся в черноте безмолвия. Прости меня.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу