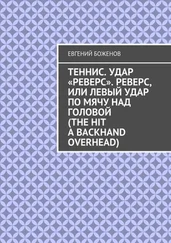Семья воеводы плачем исходила. Даже старшие дети, Егор и Владимир, имеющие семьи, ходили с красными припухшими глазами.
Только боярин Андрей Воронцов и подвойский Игорь Голубов вели себя, будто ничего не случилось. Носились по Хлынову, по берегу, где закладывали ушкуи, по ближним селам. То один, то другой скакали в Орлов, Кокшару, в Верхнюю Слободу. Московский боярин похудел, помолодел. На лице светились глаза. Осмотрелся на новом месте, вжился в свое положение, в роль.
Гришка вместе с другими воями сопровождал обозы с кормами, охранял амбары с оружием. "Глядел лесовиков", выбирающих лес для постройки ушкуев. Временами чувствовал себя ненужным - появлялось страстное желание работать: залезть в яму и вешать мясо для копчения; бить молотом - ковать, брызгая горячими искрами, из красного мягкого железа меч, секиру; с лесорубами, пахнущими хвоей и смолой, валить, обтесывать лес.
У него прошло то угнетающее состояние, которое недавно так мучило. Видно, дошли до бога молитвы, - стал тверд духом, и, случись вновь такое, как в Усолье, - рука не дрогнет: кто против воеводы, похода, тот подсобник врагу - изменник, а с предателями на Руси всегда поступали круто - не то что с пленными...
Но не по всей Вятской земле так готовились к походу. Две южные вотчины бояр Гривцова и Митрофанова не дали посошных людей, которые обязаны были прибыть в Кокшару со своим кормом, портками 41, работным инструментом, чтобы начать строить ушкуи, лодки - и попутно обучаться ратному делу.
Свой отказ подчиниться воеводскому указу объясняли в челобитной тем, что "вельми опустошена и обезлюдена земля..."
Андрей Воронцов послал на них ватамана Евсея Великого с полусотней воев, но мятежные бояре разгромили его, чуть не полонив самого Евсея.
Осмелели, сами стали посылать в соседние вотчины разъезды... Ну и доигрались на свои малосильные головы: восстали холопы, крестьяне-землепашцы. Лишили животов бояр, ихних сынов, а жен и детей по миру пустили. Добро и животину поделили между собой; для общинного пользования разделили земли, луга и леса. На имя вятского воеводы послали написанную уставом - на бересте - челобитную грамоту, где оправдывались, что взяли обратно "богом даденное", писали, что хотят жить свободно, всем миром, как раньше деды жили, и слезно просили не мешать жить... Обещали весной в поход на татар идти: "Мы свои ушкуя построим и пойдем отдельным полком... и все што возьмем - ничо не дадим - себе возьмем..."
* * *
Темно-фиолетовые с расплывчатыми гребнями волны одна за другой шли и шли на него, стараясь опрокинуть, сбить, придавить. Он все боролся, пытаясь навалиться на них, разгладить. Но новые и новые бесконечно идущие волны роняли, душили. Он напрягал все свои силы, чтобы не умереть под ними, чувствуя, как надрывается в груди сердце. Было невыносимо тяжело, хотелось вырваться из этой удушливо-мучительно-страшной борьбы, но не мог это сделать... И, вначале еле осязаемо, почувствовал, что кто-то приподнял ему голову и палкой (ложку принял за палку) открыв губы, сквозь сжатые зубы вливает какую-то жидкость. Поперхнулся, закашлялся, очнулся от сна-бреда, но тяжелы веки... - не стал открывать глаза - так покойнее. Снова полилась - он разжал зубы - горькая (теперь почувствовал вкус) слизкая обжигающая язык жидкость, наполнила рот. С трудом проглотил, тяжело, со свистом задышал - в груди хрипело, давило, не давало вздохнуть.
Он ощутил, как большая нежная женская ладонь погладила по голове, лицу - стало легче. "Дома!" - подумал Константин Юрьев. Простонал:
- Улюшка...
- Котя, Котенька! Тебе легче?! Господи, Исусе Христе! -женщина перекрестилась. - Открой глазеньки свои ясные, - попросила его всхлипывающим грубоватым голосом.
"Не жена: так она не зовет, да и голос, руки не ее... Кто? - совсем очнулся, вспомнил, что с ним, где он. - Какая-нибудь женка-нянечка" - ответил себе, приподнял тяжелые, как дверцы погребов, веки - открыл мутные провалившиеся глаза, стал всматриваться в колеблющееся, как будто смотрел сквозь горячий воздух, белое лицо... Кого-то напоминало...
- Не узнаешь? - Ласково спрашивало немолодое красивое женское лицо.
Ему показалось, что перед ним филин, так сверкали-горели ее огромные озера-глаза. Константин Юрьев опустил веки, чтобы не видеть привидение, про себя зашептал молитвы...
Узнал ее только на третий день. Это была Фотя - подруга детства - дочь кузнеца Устина.
Когда пошли слухи, что воевода при смерти, и что уже хотят соборовать (нельзя с этим тянуть; упустишь - умрет, и тогда случится непоправимое; душа покойника уйдет на тот свет с грехами), - Фотя, вдова, мать троих ребенков, жившая у отца-старика, взяла лекарство, которое хранила для детей, решила спасти воеводу. Она знала и другое: поторопятся - причастят - и тогда нельзя будет лечить, он должен умереть...
Читать дальше