— Нет, — отвечает Кристофер, — ничего, кроме составленных официантами счетов, векселей от ростовщиков и угрожающих писем, которые мне присылают портные.
— Да, трудно тебе живется… И сколько у тебя долгов?
— Разве тебя это может интересовать?
— О, да! Допустим, я из своих неестественных преимуществ (мой отец по-прежнему мелет белые денежки) сколько-нибудь предложу тебе. Ты что, откажешься?
— Мне думается, нет… Иначе или зубы на полку, или вешайся. Таково мое положение на пятнадцатое мая [23] День фашистского переворота (1934) в Латвии.
, то бишь день сытых утроб. Врать тебе не имею права.
— Только с одним условием. Сегодня же начнешь писать симфонию.
— Нет, этого я еще не потяну… Начну с «Сарказмов» — так я назову цикл сонат. Сарказмы о счастье, о любви… гимн ко дню набитых утроб, сказ о пятилатовом сребренике.
— Пиши что хочешь. Но — правду. Одна внешняя форма и сарказм ничего не выразят. Проникни глубже: за сарказм… Что было бы, если б случилось невероятное и ты сумел бы удовлетворить свои духовные потребности. Опять только смех? Издевки? И ничего, что стоило бы воспринимать по-другому? В таком случае ты — лягушка, которой дано лишь квакать. Но я хочу дожить до того дня, когда ты закурлычешь, как лебедь в высоком полете.
— Эх ты, положительный герой! Deus ex machina. Наверно, Фрош примчался к тебе на Кукушкину гору?
— Нет, я иду с Шишкиных гор [24] Шишкина гора — латышское название Чискуркалн — пролетарский революционный район Риги между Межапарком и центром.
. Живу теперь сам по себе. Вторая поперечная линия, номер пятнадцать.
— Значит, с Гималаев.
— Сколько тебе не хватает, чтобы выбраться к кисельным берегам?
— Префекту пятьдесят, Визулю пятьдесят, квартплата — 2×25, итого пятьдесят, Фрошу…
— Фрош велел сказать, что ему сейчас не к спеху.
— Pereat tristitia! Ну а коли я в этот месяц засяду за сочинительство, мне захочется раз в день пожевать, это выходит — тридцать.
— Красивая суммочка! Дражайший друг мой, хорошо, что старый Сомерсет мелет, на́ тебе два «дуба», круглые сотенки. Поклянись, что пива в рот не возьмешь!
— Клянусь!
— Клянись именем Тримпуса, Бахуса, Горация…
— Именем Тримпуса, Бахуса, Горация!
— Именем черной миноги…
— Черной миноги!
— Клянись, что весь этот месяц по салонам и гостя шляться не будешь…
— Клянусь!
— Именем Эвридики!
— Дики!
— Ну, тогда, сын мой, бери деньги, которые в пот лица заработали батраки моего отца. Они знают им цену.
— Благодарю от имени комитета вдов при обществ взаимопомощи непризнанных гениев. У меня еще один вопрос.
— Спрашивай, сын мой, твой благодетель слушает тебя.
— Как насчет коньяка? Его тоже нельзя?
Янка влепляет Кристоферу увесистый тумак и уходит.
Конец первой картины.
Вечер утра мудренее: Кристофер бежит в цветочный магазин, расположенный напротив апартаментов Маргариты, покупает три желто-красные розы, небольшую коробочку с подкладкой и шелковой подушечкой, тщательно укладывает серебряную пятилатовую монету, выбирает кремовый конверт и надписывает: «Бескорыстной и щедрой госпоже Маргарите Шелле». Затем он нанимает на углу дежурного экспресс-посыльного с тачкой и железной бляхой-номером, проторчавшего весь день без работы чтобы тот за пятьдесят сантимов поднялся наверх и отдал дары в восьмую квартиру. Кристофер остается вниз ждать его возвращения. Узнав, что цветы и коробочку принял сам Янис Вридрикис Трампедах, Кристофер приходит в жеребячий восторг. Вернулся-таки к магистру его сребреник.
Сомерсет за эти годы неплохо изучил повадки своего флауша — только и знай, что подпирай его да тормоши. Леность Кристофера не поддавалась описанию. Но коли уж он попал в колею, то некоторое время тянул и трудился исправно. Выдержка у юноши была, не хватало характера, который эту выдержку регулировал бы да подстегивал. Теперь он целыми днями не выходил из своей кельи, писал музыку, силился нащупать свой собственный стиль, найти достойную форму. Рассчитался со своими кредиторами, тете Амалии за квартиру уплатил за месяц вперед. Словом, Кристофер почувствовал себя точно птица в поднебесье, осталось лишь взмахнуть крыльями и лететь.
Техника письма успела заметно поржаветь, он это тяжко переживал. Музыкальные идеи не желали укладываться в нужные объемы и конструкции, он вымарывал, безжалостно перечеркивал написанное, сердился, кричал. Ночью, когда наконец являлось вдохновение, мешали соседи. Стучали сверху и снизу в такт его музыке. Мещане! Спать, что ли, не могут? Колошматят по стенам как оголтелые. Дикари!
Читать дальше
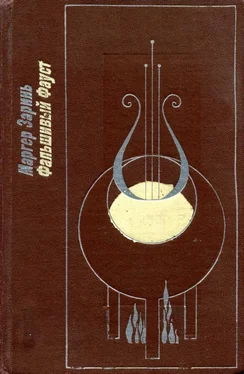





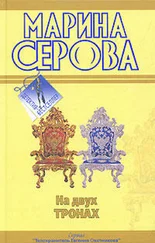


![Александр Ирвин - Tom Clancy’s The Division 2. Фальшивый рассвет [litres]](/books/417744/aleksandr-irvin-tom-clancy-s-the-division-2-falsh-thumb.webp)

