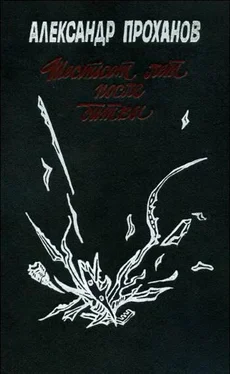— Мотыга, ты и есть Мотыга! — смеялся Гаврилов. — Мыло у него не мылится! Бабу он не обнимет. Учись жить. Мыло у меня клубничное, пена ароматная. Паста земляничная, зубы от нее как снег. А женщин я до армии любил и после буду любить. У меня женщин двадцать было, а то и больше, не считал. Когда я в ралли участвовал, мне моя любимая женщина шарф подарила, я его в кабину взял на счастье. Приз получил, мы с ней в «Сказку» поехали отметить победу, а после к ней домой… «Я, — говорит, — таких мужчин раньше никогда не встречала!»
— У нас в колхозе табун есть, десять лошадей, — тихо, тоскуя, говорил Вагапов. — Лошадь — доброта, она тебя узнаёт, понимает. Хлеб с ладони берет, все про тебя чувствует, знает… Мы в реке лошадей купали, они любят реку, они в чистоте живут. Нельзя их губить. Их на земле мало осталось. Их беречь надо! Разве можно так? И кто такое придумал? Надо генералу сказать! Позвонить генералу!
— Сейчас я тебе позвоню! — огрызнулся Мотыга. — Не ной, деревня! Без тебя тошно. А то по ушам вдарю!
Мимо проходил прапорщик, прислушиваясь к бульканью рации.
— Командир, сколько можно торчать! Сопрели. Когда их пригонят, чертей? — спросил Мотыга.
Прапорщик вскинул на него красные, воспаленные глаза, опять не сразу понимая вопрос. Понял, поморщился.
— Прекратить разговоры в строю! — И прошел мимо них.
Они продолжали ждать, томились каждый по-своему. Мотыга изнывал от жары, от липкого пота. Боялся невидимой, рассеянной повсюду отравы. Торопил время, желал поскорее вернуться в палатки, к бане, к столовой. Гаврилова тяготило ожидание. Его деятельный нрав требовал постоянной подвижности. Он подтягивал и без того аккуратно застегнутые ремешки. Любовался радужной дымкой на стволе автомата. Ему хотелось использовать оружие, услышать стук очередей, запах пороха. Вагапов тосковал, чувствуя неизбежность того, что случится. Страшился, молил, чтобы время тянулось медленней. И оно словно остановилось, застекленное в недвижном солнце, в пустынном проселке, в молчаливом, без птичьего крика, лесу.
Внезапно рация в руках у прапорщика забулькала громче. Он оживился, приблизил ее к губам, вдыхал, вталкивал в нее слова:
— «Ромашка», «Ромашка»! Слышу вас хорошо! К приему объекта готовы! Вас не наблюдаю. На связь с четыреста третьим выйду по завершении работ.
Рация шелестела и хлюпала. В ней хрипели слова. Прапорщик их понимал, кивал невидимому, посылавшему их человеку:
— Понял вас! Ожидаю. Готовность через две-три минуты. До связи.
Опуская рацию, повернулся к солдатам оживленным, проснувшимся лицом. Громко, зычно скомандовал:
— Становись! Маски надеть!
Солдаты, словно разбуженные его окриком, расправляли затекшие плечи, выравнивали шеренгу, звякали оружием. Надевали на губы и нос респираторы. Одинаковые, в белых, мучнистых масках, в серо-зеленых одеждах, с тусклым свечением стали стояли цепью у выкопанного песчаного рва.
Что-то изменилось в природе, не цветом, не звуком, а словно продернулась по солнцу незримая тень, и пространство чуть дрогнуло, стало иным.
На вершине холма, на проселке, где белели крестьянские мазанки, загудело, застенало, не машинным металлическим рокотом, а сплошным, непрерывным чмокающим гулом и стоном. Возникло облако пыли. Клубилось, взрывалось, выбрасывало из себя солнечные пышные ворохи, и в этой туче, наполняя ее, выносясь, выбрасывая вперед вытянутые ноги и узкие напряженные морды, возник табун.
Он мчал с горы, впитываясь в проселок, как в сухое русло. От него разлетались брызги — отдельные лошади стремились перепрыгнуть обочину, ускакать в поля. Но два погонщика заворачивали их на проселок, гнали к лесу.
Погонщики на одинаковых белых кобылах были в бахилах, в островерхих капюшонах, в прозрачных пластмассовых масках. На груди у них болтались рации, в руках были длинные тонкие палки, которыми они кололи, направляли табун. Их островерхие балахоны, как шлемы, мелькали в пыли.
Лошади свернули с проселка, надвинулись, налетели, вынося на солдат пыльный горячий ветер, запах пота, ржанье и фырканье, свист хвостов, мерцание глаз и зубов. Вломились в загон, закружились водоворотом, сворачиваясь в разноцветную живую спираль из гибких хребтов, вытянутых узких голов.
Погонщики соскочили со своих кобыл и деревянными пиками загнали их в общее месиво. Их белые спины и гривы потекли, поплыли, вовлекаемые в круговое движение.
— Черти болявые! Вся пыль, все рентгены на нас! — сторонился Мотыга, заслоняясь локтем. — Вон они, все шелудивые! Все в болячках! Надышишься — и хана!
Читать дальше