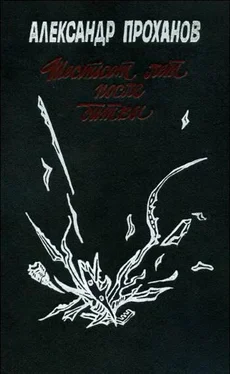— Ты ноги себе прикрой, а то, не ровен час, простудишься. Тебе нельзя простужаться. Я на работу уйду, а ты потеплее укутайся, валенки надень, два платка намотай и ступай погуляй. Подыши свежим воздухом. Только не ходи к дороге, там скользко, еще упадешь. А иди в сквер, там хорошо, снежно, тропинки протоптаны! — Он заботился о ней, накрывал ей ноги лоскутным деревенским одеялом. И она благодарно ловила его осторожную, тяжелую, смуглую руку своей белой и мягкой.
— А я все думаю, Миша, голову ломаю, как мы мебель в квартире расставим. Куда стенку, куда диван, куда столик журнальный. Расставлю, успокоюсь, вот-вот засну. Нет, не так! Опять просыпаюсь! Переставляю, передвигаю. Хочу, чтоб уютно было… Неужели, Миша, у нас будет своя квартира? Не верится даже!
— Почему не верится! Мы работаем, мы живем, ребенка рожаем. Кому же давать-то? Погоди немного, я и машину куплю. На юг вас повезу. В море будем купаться.
— Я девчонкой была, в школу еще не ходила, а уже представляла, как матерью буду. Как детей заведу, домом своим заживу. Конечно, по-детски это все представляла, по-смешному. А все равно готовилась. Забиралась в палисадник, в кусты. Там у нас сирень росла густо. А под ней земля без травы. И я в земле под сиренью дворцы себе подземные строила. Стеклышками их разноцветными выкладывала, лоскутками, пуговками. Представляла, что это мой дом и я там живу со своими детьми, и никто нас не увидит, не тронет, не обидит. Много там у меня было дворцов понастроено. Наверное, и сейчас сохранились. А ты-то думал, что отцом, мужем станешь? Небось и не думал?
— Если честно сказать, не думал. Я до армии на девчонок совсем не глядел. Как провожали, в первый раз с Валькой, соседкой, потанцевали. Она меня ждать обещалась, писала сначала, а потом перестала. Уехала из деревни на фабрику и замуж вышла. А я, когда пацаном был, другим занимался. В войну играли, по садам лазали, в лесу кротов ловили, на рыбалку ходили. С Сережей, с братом, сделали лодку из алюминия. Красивая, белая. «Манюней» назвали. Почему «Манюня»? Знал бы, «Еленой» назвал.
— Мне твоя деревня понравилась. И мать твоя с первого взгляда понравилась, и брат, и тетка. Хорошо меня встретили. А тебе мои сразу понравились? Ты их вроде сначала стеснялся.
— Вы воронежские, мы тверские. Общий язык не сразу найдешь.
— Мы-то с тобой сразу нашли! Танцевать меня пригласил, чего только не молол! Ну, думаю, языкастый. Пойду за него. Говорливый, не скучно будет!
Она засмеялась бесшумно, заколыхала большим, полным телом. И он счастливо закрыл глаза, вспомнил прошлогоднюю вечеринку, когда с ней познакомился, танцевал, удивляясь своей говорливости. И внезапно, после первого танца, решил, что не нужен ему никто, а только она. Вот кто поджидал его целых два года, пока он ходил по горам, подрывался на минах, выпрыгивал из горящей машины, ловил на мушку голову в мохнатой чалме, вносил в вертолет пробитого пулей товарища, задыхался на растресканной, пыльной земле, кричал беззвучно от страха, когда очередь рыхлила, буравила гору, подбираясь все ближе к его беззащитному телу. Вот кто ждал его эти два года. И он танцевал, говорил в тот вечер без умолку, зная, что все у них свершилось, все, что было задумано, — и этот зимний солнечный день, ее дышащая налитая грудь, близкое их ожидавшее чудо.
— Ты знаешь, Миша, что я думаю. Все время думаю, думаю… Вот мы с тобой жили не вместе, порознь. Родились, не знали друг друга, чужие были. А теперь вот здесь, — она положила на живот свою руку, — здесь мы вместе, навсегда, на веки веков! Жизнь свою проживем, умрем, следа от нас не останется, а все равно будем вместе. Будем с тобой всегда обнявшись… И наши родные, твои и мои деды, твои и мои прабабки, они друг друга не знали, никогда не встречались, а теперь вот встретились. Все они здесь, во мне! Вот какая я, правда?
— Как земля. Все в тебе. Всех в себе носишь, — усмехнулся он.
— Мои-то папа и мама всю жизнь бок о бок. Живут, не расстаются. Любят друг друга. Все друг другу рассказывают. Никогда не ссорятся, обнимаются, целуются, как мы с тобой. Вот бы нам так прожить!
— А мой отец плохо жил с матерью. Пил, кричал на нее. Даже бил. Она с ним счастья не знала. Терпела ради нас с Сережей. Плакала часто. Я отца не любил. Он ушел от нас, бросил. Куда-то на Север уехал. Ни слуху ни духу. Не знаю, жив, нет? Есть ли отец у меня?
— А все равно, и твои, и мои — вот здесь, у меня! Твои деды, они кто были? Ты мне о них не рассказывал.
— Я и сам мало что знаю, никогда не видел. Один дед на войне погиб в штрафном батальоне. Чем-то он там проштрафился, провинился. Их под Сталинградом на пулеметы пускали. Пробьешься сквозь пулеметы, ранение получишь — прощен. А не пробьешься, убьют — все равно прощен. Вот его и простили, только неживого… Другой мой дед после войны на лесоповале работал, деревом его задавило. Помню, на чердаке фуражку его нашел лесную, с двумя дубовыми веточками.
Читать дальше