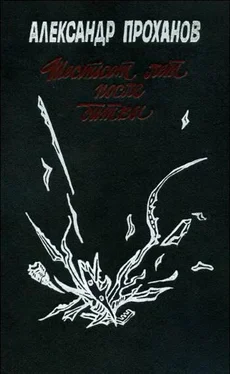Станция открывалась ему в своих ежедневных, набираемых малыми долями превращениях. Черно-коричневая, сумрачная, склепанная и сваренная, переполненная холодными ржавыми глыбами, в кучах мусора, в какофонии визгов, ударов и скрежетов, станция была уже начерно собрана. Уже была станцией. Была громадным рукотворным изделием, воплотившим свой изначальный замысел, свою идею. Еще несколько месяцев, проведенных в этих ударах и скрежетах, и она преобразится, сложится в окончательное, до последнего шва и стыка единство. Наденет драгоценные бело-серебряные ризы, разноцветные сияющие оболочки, и бессмысленная какофония звуков превратится в стройный могучий хор бессчетных подшипников, невидимых, заключенных в сталь водопадов, жаркого дыхания пара.
Станция была его детищем. Была им любима. В краткие минуты, когда оставался один среди непомерного пространства машинного зала и косые лучи били из железного неба, он ощущал величие совершаемых здесь усилий, красоту людского труда и замысла. И его нескончаемая, черновая, денная и нощная работа получала свое высшее, в величии и красоте, воплощение.
Он чувствовал себя неуставшим, свежим, ведающим. Сквозь всю неразбериху, кажущийся хаос предвидел неизбежный, поминутно приближающийся миг, когда реактор в свой легированный нержавеющий корпус примет стержни урана, операторы у огромного пульта, среди бессчетных миганий и вспышек, нажимая осторожно на клавиши, выведут замедлители, и начнется мерное, рассчитанное на годы горение, таинственное, сокрытое от глаз превращение земных веществ и энергий, уловленных людскими руками. Бестелесный поток электричества польется по проложенным в небе руслам, от мачты к мачте, от одной высоты к другой. Непрерывные, струящиеся над землей синусоиды, одевающие опоры в прозрачное сияние корон, в непрерывные стеклянные трески стрекозиных трепещущих крыльев. Он знал и предчувствовал среди предстоящих дней этот долгожданный, единственный — день пуска. Знал, что встретит его полновластным хозяином стройки, ее главой и вершителем. «Моя, моя станция!» — думал он, шагая вдоль машинного зала.
Подымая глаза вверх, вдоль ржавой трубы водовода к высоким туманным пролетам с шатрами дымного солнца, он вдруг увидел птицу, живую, залетевшую в металлический грохот. Она носилась под сводами, натыкалась повсюду на острый металл, обдуваемая жаром и свистом. Ошалело металась, ослепшая, оглохшая, ударялась о стену огня. Врывалась в сварку, озаряясь ртутным свечением. Влетала в облако пара, обожженная, теряла цвет. Падала вниз и снова взмывала, тянулась к туманным лучам. В нее били и стреляли из сотен стволов, окружали разящей картечью. Она дымилась, теряла перья. Искала путь обратно, к чистому небу, к дождям, дубравам и гнездам. Но не было пути обратно. Кругом была колючая сталь. Навстречу ей грозно и мощно катилась балка крана и гудел, рокотал мегафон. Птица была уловлена. Ее поймают, умертвят, напылят на раскрытые крылья тончайшую пудру металла, приварят к арматуре. И она, недвижная, жестяная, украсит собой плафон в диспетчерском зале. Станет сверкать и искриться среди огней индикаторов.
Горностаев смотрел на птицу и вдруг подумал об Антонине, с нежностью, с болью, с желанием тотчас увидеть. Оглянулся и увидел ее.
Она шла по машинному залу рядом с Фотиевым, обращая к нему смеющееся лицо. Что-то ему говорила, что-то веселое, вызывавшее на его лице улыбку. Он наклонился к ней, отвечал. Два их смеющихся лица были близки, обращены друг к другу, отражали одно другое. И не было среди этих зеркальных отражений, среди улыбок и слов, не было места ему, Горностаеву. И он, почти натолкнувшись на них, остолбенел. Испытал мгновенный удар боли, тоски, Хотел было кинуться прочь. Удержался. Смотрел, как они удаляются, шаг в шаг, близкие, нужные друг другу.
Вспомнил пережитое недавно на лесной морозной дороге, те же ревность, боль, унижение. Свое метание по ночному заледенелому городу, когда напрасно звонил ей по телефону, останавливался перед ее домом, направляя пылающие фары в ее окно. Порывался подняться, останавливаемый страхом застать у нее другого. Все это повторилось теперь, только больней, разрушительней.
Горностаев смотрел, как они удаляются, легко и весело, касаясь друг друга. Голубая сварка помещала их на мгновение в прозрачный куб света, и они замирали в этом хрупком живом свечении.
Он собрал в себе силы, желая повернуться и уйти, отдалиться от невыносимой боли, от источника страдания. Но вместо этого пошел следом. Чувствовал свое расстояние от них, удаление или приближение, как усиление или уменьшение боли.
Читать дальше