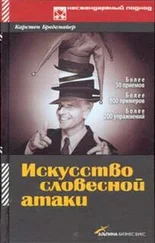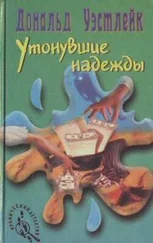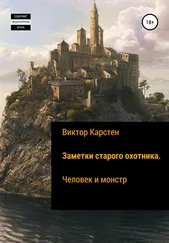Не могу объяснить, почему я сразу не вышвырнул ее за борт. Мне вовсе не хотелось сохранять эту голову или вообще видеть ее в будущем, но в тот момент, когда я стоял с ней в руках, глядя на блестящую в лучах солнца поверхность моря, что-то меня удержало. Когда Джек Льюис захотел посмотреть на эту голову в последний раз, я вынул ее из мешка, но тогда меня больше занимала предстоящая смерть самого Джека Льюиса, нежели Джим, и я не задумывался о том, что держу в руках отвратительные останки того, что некогда было человеком.
А тут мои пальцы нащупали будто бы выдубленную кожу, сухие, как солома, волосы. Прикосновение словно напомнило мне о том, кем был Джеймс Кук, пока не превратился в этот символ варварства. Я нашел силы сбросить за борт Джека Льюиса. Я не мог сделать того же с Джеймсом Куком.
Не только потому, что Джек Льюис открыл мне, кем был Джим. Поверил ли я ему? И да и нет. По существу, это не важно. Я всяко не верил в реальность этой истории. Если это Джеймс Кук, голову следует отослать в Англию. Я не знал, что с ней там сделают. Может, скроют ее существование, ведь история какая-то неловкая. Или предадут земле, сопроводив это подобающей церемонией. Может, даже положат в отдельный гроб. Но сколько раз можно хоронить одного человека? А что, если в один прекрасный день на свет божий выплывет его нога? Придется хоронить и ее?
Имя Джим поначалу казалось мне злой шуткой. А теперь Джеймс Кук словно стал частью этой шутки, и я решил, что лучше бы оставить его в покое. Но голова все еще лежала в каюте, — последнее, что осталось от человека, умершего немирной смертью. Я не мог просто выбросить ее за борт, как сломанную вещь или кусок протухшего мяса.
Именно тогда я понял, в чем разница между Джеком Льюисом и мной. Для Льюиса имя Джим было именем мумифицированной головы. Для меня — именем человека.
С тех пор я часто думал о том, не был ли Джим для меня более человеком, чем канаки. Дело не только в том, что синяя татуировка, полностью покрывавшая их лица, топила все индивидуальные черты в бездонном мраке. Их глаза тоже были чужими. Я искал в них что-либо человеческое, но не находил. Глаза были частью маски, словно сетчатку тоже покрывала татуировка.
Я ни разу не слышал, чтобы Джек Льюис с ними говорил, и сам этого тоже не делал. Я отдавал приказы. Они их выполняли. Перевязывая раненого канака, я заметил, что это тот самый, у которого нет уха. Когда я пытался промыть рану, он отвернулся. Не смотрел на меня и когда перевязка закончилась.
Между нами пролегала граница, которую мы так и не нарушили. Но по мере того как шло время, проходил и мой страх. Корабль поведал нам, кто мы такие: я был капитаном, они — командой, а пассат, всегда дующий с одной стороны и с одной силой, каждый день укреплял нашу уверенность в том, что все идет как надо.
И вот в создавшейся ситуации я начал вести себя как-то странно, даже по моему собственному мнению. Я разговаривал с Джимом. Шел в каюту, зажигал лампу на китовом жире и вынимал голову из мешка. Помещал перед собой на столе, и мне казалось, что в колеблющемся свете лампы на лице Джима возникает внимательное выражение. Я видел, как он сосредотачивается где-то там, за зашитыми веками. Молча. К счастью. Противное стало бы окончательным доказательством моего помешательства.
Я ставил перед ним узелок с жемчужинами, вынимал по одной и показывал ему. И спрашивал, следует ли мне оставить их себе.
Первым моим побуждением было выкинуть жемчуг в море вслед за Джеком Льюисом. Да, были минуты, когда я сожалел о том, что не сделал этого у него на глазах, пока он еще дышал. Это стало бы знаком победы над ним и над той низостью, которой, как ему, очевидно, казалось, он может меня заразить.
Я слишком долго колебался. Момент был упущен, и теперь я прятал жемчужины вместе с Джимом. Вскоре наверняка начал бы носить их за пазухой. А потом и вовсе ценить пуще собственной жизни и тем самым дал бы канакам прекрасный повод у меня их отнять. Кто сказал, что канаки не понимают, насколько ценны жемчужины, почему бы им не желать того, что можно получить за деньги, и прежде всего свободы?
Чувствуя тяжесть наполненного жемчугом узелка, я словно взвешивал в руках свою будущую жизнь. Мне даже «Летящий по ветру» не был нужен. Я мог бы купить свой корабль. Три корабля, и стать судовладельцем, завести свой дом, может, даже купить тот большой красивый дом на Овре-Страндстраде, отстроенный после пожара, тот, что стоит наискосок от дома священника. В мыслях я уже поселил в доме жену и детей и даже слуг. Представлял, как жена в фиолетовом платье рвет в саду розы.
Читать дальше