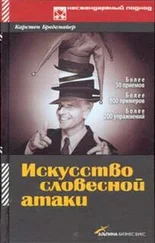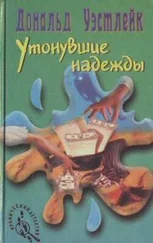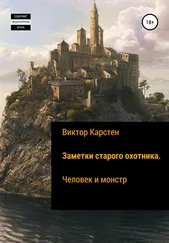Все это было плодом чудовищной дьявольской расчетливости. Восемь месяцев люди провели на борту с жестоким и злобным надсмотрщиком. И вот он открыл дверь камеры, а они не уходили. Их удерживали несведенные счеты. Как им хотелось бежать прочь, подальше от вечно источавшего угрозу штурмана, от собственного страха!
Но они остались, потому что у них был план. Они остались.
Измученные голодом и жаждой, под палящим тропическим солнцем они драили палубу и полуют дресвой и песком. Их сгоняли с коек на час раньше, чем команды других кораблей, стоящих на рейде в Сантьяго, и экипаж «Эммы К. Лейтфилд» оставался на ногах еще долго после того, как все вокруг отходили ко сну.
В тени натянутого паруса в своем кресле сидел О’Коннор. В руках он держал заряженный револьвер, у ног его лежала псина. Он сидел там не для того, чтобы не давать матросам отлынивать от работы. Если бы хоть один из них поднялся с раскаленной палубы и подошел к фалрепу, намереваясь удрать, О’Коннор бы и пальцем не пошевелил, чтобы удержать дезертира. Нет, он бы злорадно расхохотался и пожелал тому счастливого пути.
Подплывали каноэ с красотками, которые зазывали моряков прокатиться. Прически, обнаженные плечи, пышные платья.
— Мы к вам!
Штурман поднимался со своего места и угрожал им револьвером.
Это испытание на прочность сгибало спины матросов, они все больше изматывались, замолкали и тощали. Но сумма каждодневных унижений равнялась победе. Они видели, как у О’Коннора забегали глаза, как на битом-перебитом лице безмятежность начала все чаще сменяться недоумением.
Прибыв в Нью-Йорк, члены команды предприняли два шага. Сначала они покинули корабль, где их ответом на побои и унижения было лишь скромное торжество пассивной стойкости, а затем стройными рядами промаршировали до ближайшего полицейского участка и заявили в полицию на штурмана «Эммы К. Лейтфилд».
В этом-то и заключался их план. Вот что пришло в голову Альберту, вот что помогло им все вынести. Они планировали убийство О’Коннора, но что-то — может быть, страх — удержало их.
Альберт понимал: если капитан стоит в сторонке, когда на корабле кто-нибудь — например, штурман — идет вразнос, значит закона на корабле нет. Команда не может устанавливать закон. Команда может взбунтоваться, но бунт — лишь крик о помощи, не более. Для матросов куда разумнее не вносить свою лепту в творящееся беззаконие. Но без закона нельзя, и, если его нет на корабле, он найдется на суше.
Потому моряки и направились в полицейский участок: не ради мести, но ради закона.
Они пришли спросить, существует ли справедливость.
И получили ответ.
Они прошли по Нижнему Ист-Сайду до Двенадцатой улицы, где находился полицейский участок, — дружной толпой, заняв весь тротуар. Прохожие шарахались в стороны. Здоровым, широкоплечим работягам на миг стало стыдно, что они не в состоянии сами разобраться со штурманом. Семнадцать против одного, а собираются просить кого-то о справедливости.
Может, закон лишь оправдание слабости?
И вот они стоят перед грязновато-желтым, неряшливого вида зданием. Надпись на табличке гласит, что здесь обитает закон. Войдя внутрь, они засомневались, по какую же сторону закона все-таки находятся. Большинство арестантов, которых волокли с улицы люди в форме, походили на них. Они приблизились к стойке, неуверенно друг друга подталкивая. Говорить пришлось Альберту. Он рассказал об убийстве Джованни, а швед, помощник штурмана, указал на свой изувеченный и навеки утративший способность видеть глаз.
Полицейский составил протокол. При виде собственных слов, занесенных на бумагу, в этих людях что-то изменилось. Они переглянулись и выпрямились. На них больше не смотрели как на недовольных, чьи жалобы заслуживают лишь насмешки и недоуменного пожатия плечами.
Затем двое полицейских проследовали вместе с командой на судно. Штурман сидел в своем кресле на палубе. Собака лежала у его ног. Матросы знали, что у него в кармане заряженный револьвер. Но в закон стрелять нельзя. Застрелишь одного полицейского — на его место придут еще десять.
На лице О’Коннора отразилось изумление. Он переводил взгляд с одного матроса на другого, но они не опускали глаз. И тогда до него дошло. Они совершили немыслимое: не ударили его, не дали сдачи, не попытались убить. Это бы он одобрил. Этого он желал. Этот язык он понимал. Он сам на нем говорил. А они выбрали другой путь, незнакомый и непонятный, где не работало право сильного.
Читать дальше