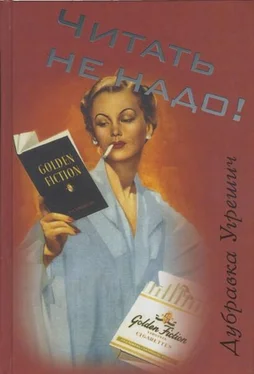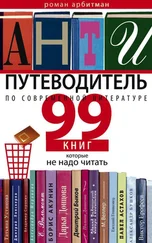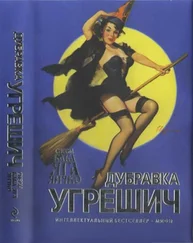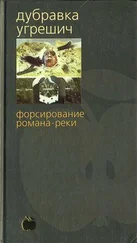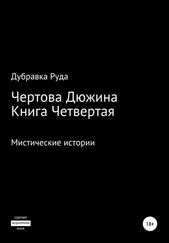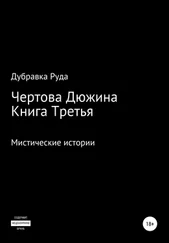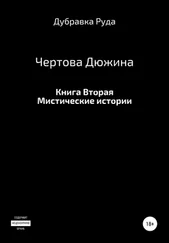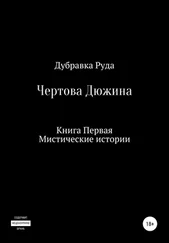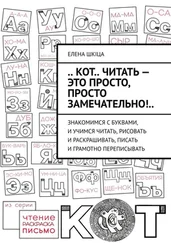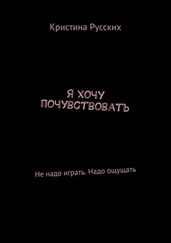Если гражданин мира принадлежит к оставшимся двум третям населения земного шара, значит, он либо голодает, либо попросту нищий. Два мира — богатых и бедных — живут обособленной жизнью. «Богатство глобально, нищета — локальна, но между ними не возникает случайной связи», — утверждает Бауман. Статистика еще более убедительно подчеркивает это разделение на два мира: в данный момент в мире, по-видимому, 358 миллиардеров; их доходы равны доходам 2,3 миллиарда людей.
Идеология глобализации столь же привлекательна, сколь привлекателен идеализированный гражданин мира. Глобализация, прежде всего, — синоним современности, в котором работа наконец-то стала удовольствием, будто мы докатились до коммунизма.
Идеология глобализации преуспела в соединении и гармонизации двух противоположных идей: универсализации, и следовательно — неизбежной стандартизации; и с другой стороны — неотъемлемого права на индивидуальность и непохожесть. Глобалистская идеология, которую мы впитываем ежедневно с экранов телевизоров, утверждает гармонию этих идей, демонстрируя индийских женщин в сари, деловито блуждающих по Интернету, или арабских женщин, обмотанных тканью с головы до ног, со звонящими из-под всех этих одежд мобильниками.
Этот спектакль глобализации расцвечен старыми революционными идеями свободы, равенства и братства, но на этот раз — торжествующими в мире без границ. С практической точки зрения, глобализация — нечто вроде магического трюка. Ведь только маг способен помочь этому декларируемому миру без границ одновременно и аннулировать , и установить государственные, национальные, этнические, религиозные, расовые, географические и прочие границы.
Идеология рыхловата, зато практика тверда. На практике мир без границ ежедневно открывается миллионам людей, перетекающим из «неблагополучных» миров в «более благополучные». Помимо бесчисленного множества мигрирующих, которые отсылаются назад или погибают при нелегальном пересечении границы, существует также и фантомная популяция «мертвых душ», примерно, как утверждают, семьдесят миллионов тех, кто, подобно теням, внедряется в «лучшие» миры без каких бы то ни было удостоверений личности.
Создатели спектакля глобализации имеют в своем распоряжении все, что им необходимо: деньги, средства массовой информации, власть, но главное — всевозможные завлекательные изобразительные средства. Скептиков, вопрошающих, что там, за дымовой завесой, называют оторвавшимися от народа «фундаменталистами», которые скорее умрут от жажды, чем протянут руку к завоевавшей мир «кока-коле». Глобалисты особо не разбирают, кому какой ярлык пришпилить. В одну и ту же категорию ниспровергателей нового мирового порядка могут попасть и Слободан Милошевич, и Ноам Хомски [52] Хомски, Аврам Ноам (род. 1928)) — американский лингвист, политический публицист и теоретик. Один из крупнейших мыслителей и лингвистов современности, известный критик американской политики, автор многих книг, статей, научных работ по лингвистике, философии, истории науки, проблемам современности, международным проблемам и правам человека.
.
В пределах идеологической структуры глобализации ведется борьба так называемых «демократических» средств массовой информации против оппозиции: за прогресс и будущее — против традиционализма, за высокие технологии — против «сохи и плуга», за глобальные коммуникации — против изоляции, за ценности «прогрессивного» мира — против ценностей «отсталого» мира, за свободный рынок — против нищеты, за миролюбивое большинство — против упорного, воинственно настроенного меньшинства. Исход этой битвы заранее предопределен.
Люди, имеющие отношение к культуре, нередко попадают в идеологическую ловушку, подстроенную агитпропом глобализации. Существует некое большинство, которое покорно покупается на ценности современной культуры, и незначительное меньшинство, которое эти ценности подвергает сомнению.
Серьезная критика глобализации в культуре исходит не только с «периферии», из рядов постколониальных, незападных теоретиков культуры, но также и из «эпицентра», из рядов американской интеллигенции. Американские критики не сомневаются, что «глобализация» — лишь одно из обозначений американского культурного империализма, американизации в глобальном масштабе. Западноевропейские интеллектуалы гораздо более осторожны, потому что не хотят угодить в один идеологический лагерь с Талибаном. Восточноевропейские интеллектуалы молчат: в травмированных посткоммунистических государствах любая форма критики рискует быть названной «левацким терроризмом», который, по утверждению ее противников, способствует возврату коммунизма. Кроме того, «леваки» могут запросто оказаться в одной связке с местными националистами. «Антиамериканские» и «антиевропейские» настроения служат идеальным идеологическим прикрытием для местных преступников и людей при власти: антиглобалистская риторика, защищающая этнические и культурные различия, не допускает внедрения на свою территорию контроля извне — он помешал бы ей беспрепятственно продолжать свою преступную деятельность.
Читать дальше