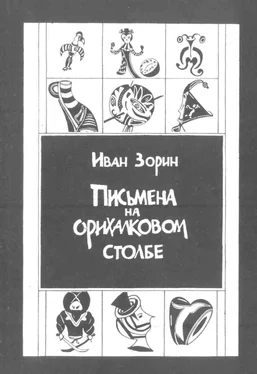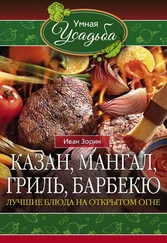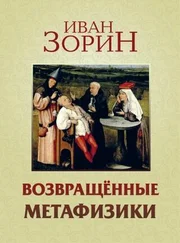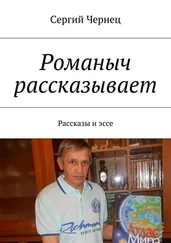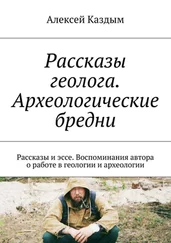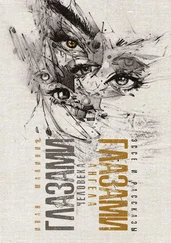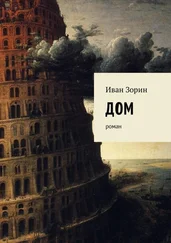Отметая как несуразное предположение о том, что он подвержен чувству, обратному deja vu, чувству, которое психологи относят на счет переутомления и усталости, протагонист справедливо полагает, что шахматный ход, оперная ария и майские жуки являются лишь элементами чего-то большего, что постоянно исчезает из его мира, что они — части какой-то мозаики, которая меркнет для него.
Утраты меж тем нарастают лавиной, теперь он обнаруживает их на каждом шагу. (Возможно, впрочем, что поток их постоянен, а взгляд героя становится пристальнее.) Мир вокруг него сужается, беднеет. Краски тускнеют. «Вначале, когда ч е г о-т о много, расстаешься легко, незаметно, — прояснял это состояние Арбисман, вращая бокал в ладонях, и рубленый строй фраз странно контрастировал с мягкой влагой его взора, — горечь проступает, когда остается мало, когда в душе, как в колодце, показывается дно».
Терзаемый сомнениями, снедаемый ностальгией по прошлому, мучимый страхом протагонист постепенно осознает, что вор — само время, что оно с первого вздоха обкрадывает индивида, и что он теперь бьется, как, впрочем, и все («просто другие меньше рефлексируют по этому поводу», — думает он), в сотканной временем паутине потерь и что сама смерть есть лишь частный, предельный случай пропаж. Таков страшный в своей неумолимости закон, который постигает герой, испытывая на себе его действие.
В этом месте легко поддаться искушению исказить дух философии потерь, облекая его в вульгарное и прагматично насмешливое «утраченные иллюзии», или пряча в дымовую завесу «старости». Суть ее лучше определить от противного. Если у Платона душа постепенно «припоминает», то душа «человека теряющего» — непрерывно «забывает». Герой одновременно боится и ждет новых исчезновений, как ждет больной все новых признаков своей неизлечимой болезни.
Такова тема hominis predentis, такова тема рассказа. Остается лишь уточнить время и место действия. Да нужно ли?
Интересную своей противоположностью и несколько парадоксальную мысль, в духе суфиев, высказала мне одна дама (находившаяся, как я думаю теперь, под влиянием Джалаледдина Руми [85] Руми Джелаледдин (1207–1273) — персоязычный поэт-суфий, один из учителей суфизма — мистического направления в исламе.
), когда я, передавая ей этот сюжет, дошел до финальной фразы, которая тогда прозвучала так: «Теперь я смиренно слежу за пропажами и тихо жду, когда исчезнет мое собственное, вконец опустошенное я. И тут, перебивая минор завершающего аккорда, моя знакомая заявила с уверенностью пророчицы или — чего здесь было больше? — безапелляционностью женщины: «Неправда, вот когда пропадет все лишнее, тогда-то и останется подлинная сущность оголенного я!»
А позже мы расстались. Навсегда пропали друг для друга. И я даже не знаю, с такой же философской невозмутимостью отнеслась она к нашему разрыву, как отнеслась когда-то к утратам выдуманного мной литературного героя [86] На схожие рассуждения я натолкнулся позднее у Майстера Экхарта, утверждавшего, что для познания Бога необходимо «освобождение от всех вещей» (Gelassenheit). Я прочитал у него, едва ли не путая его «спокойствие» с хайдеггеровской антитехнократической «отрешенностью от вещей», как Дионисий призывал своего ученика Тимофея, говоря, что чем больше ты погружаешься в забвение, в сокровенный и тихий мрак, тем ближе ты к Богу, ибо — дальнейшее настолько же поражает меня, насколько кажется и очевидным, — Богу противно творчество в образах.
.
Когда сейчас, по прошествии стольких лет после разговора с Арбисманом [87] Майстер Экхарт — Экхарт Иоганн (1260–1327), немецкий христианский богослов и мистик. Употребляемое им понятие «Ge-lassenheit» («спокойствие», «хладнокровие») традиционно переводится на русский язык как «отрешенность от вещей», что соответствует буквальному переводу антитехнократического неологизма, предложенного немецким философом Мартином Хайдеггером (1889–1976).
, я решаюсь разработать возникшую тогда фабулу, мне почему-то хочется изменить ее финал. И здесь мне видится несколько версий.
По первой из них — правда, это скорей литературный ход, а не версия, — это были дневниковые записи (в поданный материал тогда необходимо внести исповедальный оттенок и хронологию), которые некто, назовем его на сей раз Лостманом [88] …назовем его… Лостманом — от англ. lost man — потерянный человек.
, больше для определенности, нежели привнося сюда символ, вел в пору пылкой юности, про которые начисто забыл и которые теперь (здесь в повествовании совершается естественный переход от первого лица к третьему) перечитывает в зрелости. И герой, уже умудренный опытом, переосмысливает написанное с позиций пережитого. В одном из вариантов данного финала он даже не узнает своего почерка. Подобная развязка, однако, мне представляется чересчур поверхностной и до дурноты реалистической, чтобы претендовать на правдивость.
Читать дальше