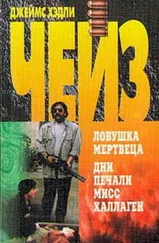— Это я их ему дала, — медленно проговорила она.
— А у тебя откуда они?
— Приносила… понемножку… все лето…
— А-а-а! Вот, значит, как?! — взорвался Лефтер. — И ты, значит, воруешь общественное! Ну уж этого-то, тетка Саба, я от тебя никак не ожидал. Ты ведь сама это хозяйство создавала!
— Покажешь нам свой дом? — тихо спросил лейтенант, но в голосе его теперь прозвучала твердая, неумолимая нотка.
Происходило что-то отвратительное, нелепое, нужно было исправить глупость, сделанную старой женщиной, и я уже готов был вступиться, но тетка Саба так на меня посмотрела, такая мука и мольба были в ее сухих глазах, что я никогда их не забуду.
Участковый знал свое дело: обойдя сарай и комнаты в доме, он попросил стул и заглянул через слуховое окно на чердак. При этом тетка Саба стояла внизу, у его ног, тупо смотрела на его пыльные ботинки. Лейтенант приподнялся на цыпочки и, медленно поворачиваясь, обшарил электрическим фонариком темные чердачные углы. Потом энергично спрыгнул со стула и отряхнул ладонью свою фуражку.
«Ну?..» — спрашивали его глаза.
Старая женщина смотрела на него, словно онемев. На шее у нее под морщинистой дряблой кожей часто пульсировала жилка.
— Ты все ему отдала?
— Ага, отдала…
Участковый привычным жестом открыл планшетку и достал какие-то бумаги.
— А вы что скажете? — обратился он ко мне.
— Ничего…
— Ладно. А твое дело, тетушка, попахивает товарищеским судом… Раз общественное — значит, твое? Мне просто неудобно говорить все это тебе. Старая женщина, до седых волос дожила…
Я слушал молодого человека, смотрел на его румяное лицо и в его глаза, которые казались мне сейчас пустыми и жестокими… Тетка Саба стояла перед ним неподвижно, униженная, ушедшая мыслями во что-то далекое, свое, и только рука ее нервно вздрагивала — старческая рука с обломанными в работе ногтями, с крупными синими венами.
— Сейчас вот выставим вас напоказ перед всем селом…
— Да перестаньте вы! — не выдержал я. — Сколько можно мучить ее!
— Гражданин! — Участковый удивленно посмотрел на меня. — Гражданин, вы полегче!
Теплые осенние деньки подходили к концу.
Задул северный ветер, погнал к оврагам опавшие листья. Папоротники, тихо о чем-то шепчась, склонились до земли, укрывая ее коричневым своим покрывалом. Лес ощетинился…
Откуда взялся туман? Наполнив речное русло пышно клубящейся пеной, он разлился по седловинам и начал подниматься вверх — по старой дороге, по которой мы шли тогда с теткой Сабой; по этой дороге уходили Сабина, и Лефтер, и Благой, и светловолосый лейтенант; по этой дороге пришли когда-то поселенцы, обжившие здешние горы, отсюда по ней же ушли их внуки… Оторвется спираль от плотного лохматого тумана и, несомая воздушным течением, коснется, улетая, кроны старого дерева… И только там, над острыми гребнями гор, по ту сторону хребта, сияет кусочек далекого, чистого света. Там — солнце; там еще раздаривает щедрую свою красоту теплая осень…
Ты останешься здесь. Может быть, через неделю уже выпадет снег. Разве тебя не пугают одинокие зимние ночи и глухой стон леса? А тихий, едва уловимый звук, что издает червь-древоточец, — не пугает? Ты останешься, но зачем, если молодые не пустят здесь корней, а твои корни уж иссохли?..
Я говорю:
— Как только смогу, я снова к тебе приеду, тетя Саба.
— Приезжай. Да только далеко мы от дороги, вот что худо…
— Я тебе обещаю, что приеду.
Возвращайся домой, думаю я. Иначе туман застудит твои старые кости. Зачем ты меня так далеко провожаешь? Как ты пойдешь обратно одна?..
— Испортилась погода, — говорю я. — Дождь собирается.
— Ага, испортилась. Как эта пора подойдет — так и портится.
— Ты береги себя…
— От чего беречься, волков нет… Ну, в добрый путь, сыночек. С богом…
Ее глаза усталые и сухие, и снова в них немой вопрос и беспокойство, но не это в них главное. Там, в самой глубине этих усталых и скорбных глаз, огромная, неизмеримая бездна, у которой нет пределов…
Почему мы привыкаем не видеть того, что живет в стороне от больших дорог? Может быть, так нам легче?
Но ведь и в наше время, и еще, наверное, после нас будут плыть, словно айсберги, эти приметы нашего прошлого, нашей молодости…
Перевод И. Марченко.
Васил Акьов
ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ
© Васил Акьов, 1979, c/o Jusautor, Sofia.
На фотографии трое — мама, сестра и я. Мама сидит на стуле в черном креп-жоржетовом платье со сборчатым жабо и с сумочкой на коленях. Взгляд ее, мудрый, проницательный, выражает смирение перед жизнью и в то же время решимость не поддаться ей. Я ученик первого класса гимназии, в недавно сшитой форме, в новой фуражке, моя сестра ученица последнего класса, на ней берет, сатиновый гимназический халат с белым воротничком. Моя рука лежит на мамином плече. С той поры сжатый мальчишечий кулачок будет виден на всех ее фотокарточках для паспортов и удостоверений. И мама будет смотреть на него и нести на своем плече, как когда-то носила на руках меня. Потому что через несколько лет жизнь на четверть века разлучит нас и мы будем видеться лишь время от времени, не успевая сказать друг другу почти ничего. На всю жизнь черное креп-жоржетовое платье останется ее выходным платьем, в нем она будет и погребена. Она сшила его, когда умер мой отец. А снимок сделан через шесть лет после того страшного удара, в воскресный день янтарной осенью тысяча девятьсот тридцать четвертого года.
Читать дальше