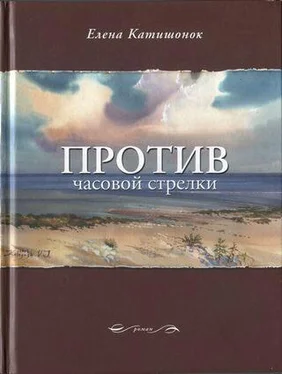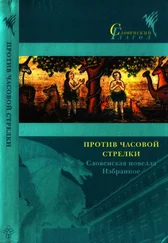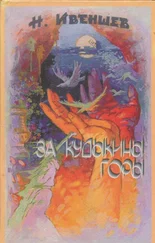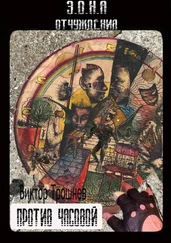Коля уходил, и на нем не было креста.
Через два дня его увели.
Потом, когда его уже не стало, отдали золотое обручальное кольцо и профсоюзный билет. Был бы крест, вернули бы и крест.
Коля креста не носил.
Да разве в кресте дело? Крест — это символ, а не амулет.
…Отец вернулся домой вскоре после Ирины, словно вынырнул из бездонной неизвестности, как из темного колодца. Он сильно хромал и от этого казался совсем старым. Вернулся, измученный тоской по дому, который снился ему в далекой Сибири, где после ранения его выхаживала то ли санитарка, то ли медсестра, но выхаживала не на больничной койке, как полагается, а у себя дома, когда из госпиталя его уже выкинули. Того, что он осмелился болеть не в больнице, Матрена ему не простила до самой смерти, и жизнь их стала адом.
Средний сын, Андрюша, так и остался в неизвестности, и эту неизвестность подтвердила официальная бумажка «с войны», как говорила мамынька: «Пропал без вести».
Вот Андря носил крест, думала Ира, а что это изменило? Он мог спастись, спорила она сама с собой много лет; он ведь мог, как Мотя…
Мог. А стал бы?
А Коля? Коля стал бы так спасаться, укрываясь по деревням, в чужих домах? Стал бы отсиживаться в подполах и погребах, вздрагивая от малейшего шороха? Смог бы так, как брат, пролежать сутки ничком в полусожженном пустом доме? Принял бы скудный кусок хлеба и ночлег, чужую рубаху, чужую жену?..
Ирина дорого бы за это дала. Чтобы выжил не ценой предательства, не подлостью, а — милостью; важно ли, кто руку подаст и приютит?
Как же, «руку»; держи карман шире. Одними и теми же словами говорили мать и Пава, Мотина жена. Пава распалялась, не обращая внимания на детей: «Твой брат, да ведь он кобель, потаскун какой; с кем только не блудил!.. А ты: „руку протянет“», — передразнивала с издевкой и прибавляла такие слова, что Ира однажды не выдержала:
— За что ты его блякаешь ? За то, что домой вернулся? Что тебя вдовой не оставил, а детей сиротами, за это? Да ты должна Богу молиться, что он домой пришел! Он не кобель, он человек; как можно не понять, Пава?! Да если б моего… если б моему Коле какая-нибудь женщина дала приют, если б уберегла и сохранила… Господи! Да я б ту женщину нашла, я в ноги бы ей поклонилась в благодарность, что моего мужа спасла. А ты…
Пава была несгибаема. Невозможно было представить себе, что она знает такие слова, но она не только знала, а швыряла их с какой-то уверенностью, словно вынужденная супружеская неверность мужа дала ей особое право их произносить.
— Если бы… если бы моего… — Ирина выбежала, махнув рукой, а во дворе увидела брата.
Он стоял у калитки, втянув голову в плечи и ссутулившись. Когда повернулся, в глазах была такая обреченность, что Ирина испугалась:
— Терпеть надо, Мотя. Как-то, может, перемелется, — улыбнулась через силу, — мука будет, — и пригладила ему волосы, как делала в детстве.
Странные какие слова, подумала она, и кто их придумал? «Перемелется — мука будет». Или мýка? Все ли можно перемолоть с таким завидным результатом?
Что ж, жизнь покажет, мука или мýка.
…Жизнь показала. В том же 46-м году появился на свет Митюшка. Ира обрадовалась: значит, брат прощен, и безобразные скандалы с позорными словами остались в прошлом. Да только не все оказалось так, а точнее, все не так.
Кроме Митюшки.
Оказывается, можно презирать мужа, чернить, поносить — и оставаться ему женой, и родить от него ребенка.
Мальчуган рос молчаливым, сосредоточенным и вскоре тоже, как старшие братья и сестра, привык к материнским попрекам и к постоянной виноватости отца, хоть далеко не сразу постиг смысл того и другого. Однако постиг явно до того, как Мотя ушел из семьи, — хотя бы потому, что ни особого удивления, ни тем более возмущения, которого так ждала Пава, мальчик по этому поводу не выказал. Да и то: ему шел уже семнадцатый год, старшие к тому времени жили своими семьями, а к тому, что мать постоянно недовольна отцом, парень давно привык.
Ни Максимыча, ни Матрены уже не было в живых, а сестры мужа — Пава знала — всегда были на его стороне. Было даже время, когда Тоня настолько рассердилась, что перестала с ней раскланиваться при встречах, устав заступаться за брата; сам он защищался только молчанием.
А потом, устав от собственного молчания и постоянного чувства вины, надел не торопясь пальто и вышел из дома, который построил некогда собственными руками, и больше не вернулся.
Было ему пятьдесят семь лет.
Говорят: «чаша терпения переполнилась» и никогда — «разбилась». Чувство вины, по-видимому, делает чашу терпения очень емкой. Мотя простился с дочерью и младшим сыном. Старшие сыновья жили далеко и в разных местах — кого куда офицерская служба забросила; им написал короткие письма и дал свой новый адрес. Да-да, адрес, ибо уходил не руки на себя наложить — руки ему, столяру, еще ох как понадобятся: заработать не только на алименты, но и на новую семью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу