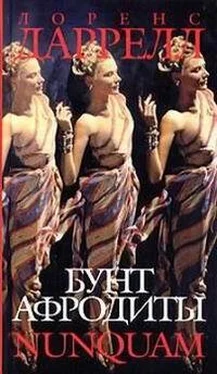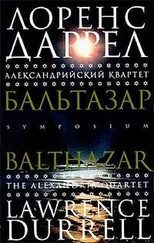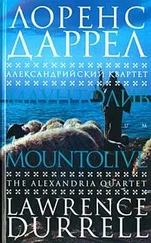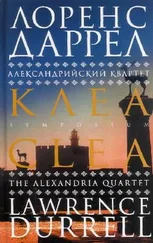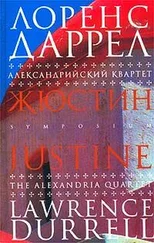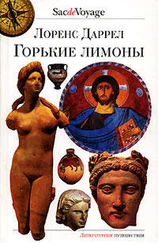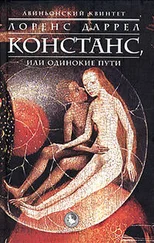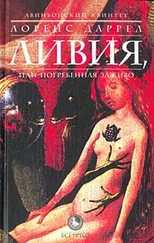— Ах, — проговорил он и переставил ноги в ярко начищенных туфлях. — Я позволил себе заглянуть сюда по дороге на Ямайку. Надеюсь, всё в порядке? Бэйнс обиходил меня, как ребёнка.
И он повёл подбородком в сторону подноса с сэндвичами и шампанским в ведёрке. Однако он остался сидеть в кресле. Бенедикта скользнула к нему, обняла его, словно выполняя светские формальности, пока я раздевался и влезал в полосатые шлёпанцы.
Наверно, Бэйнс уже давно спал; поэтому, ища сигарету, я попросил Бенедикту сварить кофе.
— Джулиан, вы были правы, — сказал я, тотчас осознавая лёгкость, с какой мне дались эти слова. — Но вы здорово меня перепугали. То, о чём вы говорили, на нынешней стадии невозможно без посторонней помощи, поэтому я позвонил Маршану, а он поклялся, что не имеет к этому никакого отношения. Я перебрал в уме все варианты коротких замыканий. И естественно, ни ему, ни мне не пришло в голову даже подумать о Саиде — а ведь это он отыскал номер и набрал его. Вот так!
Я устроился напротив камина, и в комнате воцарилась тишина — глубокая, богатая звуками сельская тишина; я чувствовал, как он ностальгически упивается ею, насторожённо подняв голову, словно охотничья собака.
— До чего же тут спокойно, — с удивлением произнёс он. — Наверно, даже спокойнее, чем в большом доме — там всегда что-то шумит. Думаю, всё дело в маленьких комнатах.
Пришла Бенедикта и принесла поднос с кофе; она уже надела пижаму и расчесала волосы. Мы расположились перед камином, раздули в нём пламя и налили в кружки кипящий напиток.
Джулиан смотрел в огонь поверх наших голов. Он казался спокойным, пребывающим в мире с самим собой, — однако в этом было что-то от старческой отстраненности, совсем не похожей на победу над внутренними конфликтами.
— Вы говорили, что закончите работу в следующем месяце, это так? Пора нам понемногу вводить её в нашу жизнь — или ещё рано? В конце концов, с её точки зрения, у неё был большой кусок жизни после того, как она покинула нас. Вряд ли нам захочется, чтобы она удовлетворилась участью научной сироты.
Я был всерьёз тронут забавной унылой нотой в его голосе, который звучал то высоко, то низко, как наканифоленная мелодия виолы; мне даже как будто послышалась нота наивной симпатии. И лицо у него, пока он говорил, словно помолодело и разгладилось в свете камина.
— Разве я не прав? — спросил он под конец, словно споткнувшись, но с той же бесстрастной задумчивостью, которую я тоже почему-то нашёл трогательной.
— Хочу надеяться, — ответил я, — что вы не слишком привязались к нашей модели и не путаете её с живой женщиной! На самом деле это легко может произойти, ведь она, скажем так, почти живая. Правда, и Маршан, и я в какие-то моменты понимали, что думаем о ней, будто она настоящая, а не творение человеческих рук, пусть даже прекрасное.
Пару раз Джулиан кивнул, пока я произносил свою речь.
— Знаю, — тихо произнёс он. — Знаю.
У него шевелились губы, словно он предостерегал sotto voce [76] Тихим голосом (итал.) .
сам себя. И вдруг, не знаю как, у меня вырвалось:
— Джулиан, как вам пришло в голову… сделать копию?
Теперь он смотрел на меня с упрёком и с такой печалью, такая безысходная боль была в его взгляде, что мне стала очевидной вся неуместность моего вопроса. Чёрт возьми!
— В определённых обстоятельствах совершаешь определённые поступки, — в конце концов ответил он. — Никогда не задумывался, почему и как?
И он был прав. Как ответить на вопрос, не приняв во внимание ту жизнь, которую мы оба прожили в фирме Мерлина? Я ведь тоже прошёл там своё ученичество. Да… фантастика ничем не отличается от реальности. Это ясно как день, говорится в пословице.
На мгновение он опустил голову и прикрыл веками чёрные глаза, напомнив мне хищную птицу; и, глядя на него, задумавшегося в свете красной лампы, я не мог не подумать, что его сила уступает умственной напористости и что фундаментом фирмы (в сущности, они стали неразделимы) стало бессилие, медленно распространяющееся пятно осознанного бесчестья, стыд и уныние, вытекающие из этого. И ничего более — как будто этого недостаточно! Да нет, достаточно для формулировки, для определения места. Облегчение было такое, что я не понимал, как это прежде ничего не мог объяснить себе. В самом деле, то бесценное, за что мы все сражались, размахивая каждый своим стерильным и бесстрастным пенисом, было вечным и анальным — простывшим библейским говном нашей культуры, лежащим под побегами современной истории в ожидании… («Молдавский пенис широкий и круглый», — пишет Тинберген, тогда как Умляут добавляет: «И нередко блестит, как обыкновенный баклажан». Что бы мы делали без исследований этих северных учёных?) Немыслимая жадность бессилия!
Читать дальше