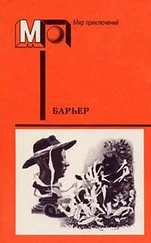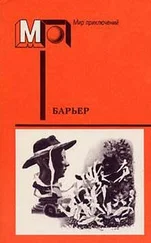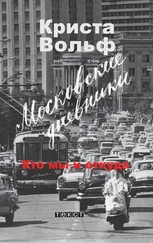Здесь состоялось и знаменитое выступление Зиги Дайке. Этот мальчик, noменьше Нелли, жил в первом из баровских домов. Подкравшись к ним, он неожиданно выскочил на самый край Провала (как раз там вы и стояли), вскинул вверх правую руку и зычным, визгливым от восторга голосом проорал: «Я ваш фюрер Адольф Гитлер, вы — мой народ и должны мне повиноваться. Зигхайль! Зигхайль! Зигхайль!» Когда Нелли с Хеллой подхватили его троекратное «зигхайль!», он вполне этим удовлетворился и более веских доводов покорности от них не потребовал, С головкой у него было плоховато, сказала Ленка,— Почему? отозвался Лутц. Мальчишка просто повторил слышанное по радио, — Бедняга, сказала Ленка.
И вот наступило то, что люди старшего поколения и теперь еще зовут «мирными временами»: три-четыре года, которые их сознание растягивает сверх всякой меры.
Почему это ощущение не вернулось, ни разу за двадцать восемь мирных лет? Неужели войны в других частях света, где вершится ныне история, не дают покоя тем, кто не имеет к ним прямого касательства? Это был бы шаг вперед. Или же, что вероятнее, на родном нашем континенте вполне достаточно напряженностей — пусть и не приведших к горячей войне, а только к холодной, чтобы ни на секунду не умолкало в нас чувство опасности?
Какая ошибка — ехать зимой на отдых в этот престижный пансионат. Вот и торчи теперь две недели в окружении верхушки среднего класса, отцы семейств именуются тут не иначе, как «господин профессор», матери носят западный текстиль, и все поголовно томятся скукой и распространяют убийственную стерильность. Ночью тебе снится, что едешь ты на машине по чистенькому, спланированному по линеечке красно-белому городу, что всюду попадаешь в тупики, а в конце концов поднимаешься в гору по заваленному снегом серпантину, машина идет юзом и передними колесами зависает над бездной.
Что означает этот сон в этой мирной долине, среди этих мирных людей? Наутро в газете — траурное извещение; все-таки слишком рано, хоть ты и ожидала его. Ты повторяешь про себя то, что Б., ныне покойная, сказала тебе пять дней назад. Оптимистическая скорбь, сказала она, возможно ли такое? Ты была сама не своя, поскольку знала, что видишь ее в последний раз.
X. соглашается съездить в город. Отпускает тебя одну по магазинам и не говорит ни слова о твоих нелепых покупках. Платье, блузка, сумка. Какое наслаждение — посидеть в заурядном кафе. На обратном пути — наслаждение игрой несчетных оттенков серого на небе. Ты замечаешь их, потому что жива. Засыпаешь и пробуждаешься с мыслью о ее смерти, но ты—жива.
Мирные времена. Когда все у нас было хорошо. Мирный товар: шерстяная ткань без деревянных волокон. Когда фунт сахару стоил тридцать восемь пфеннигов, пачка масла — марку, а бананами так просто швырялись. Когда толстая кредитная книга Бруно Йордана похудела до тоненькой тетрадочки, да и записывали туда не безденежных, а всего-навсего забывчивых клиентов. (12 мая 1937 года число безработных в рейхе упало до 961 тысячи человек.) Когда в пироги клали сливочное масло.
Забыто вот что: рационирование бытовых жиров началось в разгар мирных времен, и Закупочное товарищество немецких торговцев (ЭДЕКА), только что избравшее своего образцового участника Бруно Йордана секретарем правления, вынуждено обсудить «создавшееся положение» с партайгеноссе Шульцем из «Имперского земельного сословия»; Бруно Йордан выступает перед собранием бакалейщиков по вопросам четырехгодичного плана, законодательства о рынках и специальной периодики — первый и единственный случай, когда его имя упоминается в разделе местной хроники «Генераль-анцайгера». Зима тридцать шестого — тридцать седьмого года выдалась мягкая, это подтверждено документально. После того в целом весьма успешного заседания 3 января 1937 года Бруно Иордан, конечно, еще долго сидел со своими коллегами —а может, и партайгеноссе Шульц из Берлина составил им компанию,—так что домой он явился скорее ни свет ни заря, чем за полночь, а когда, слегка пошатываясь, добрел до спальни, то увидал, что его постель занята дочкой. Нелли; Шарлотта Йордан, из предосторожности осуществившая эту санкцию, холодно сообщила мужу, что ему постлано в большой комнате, на новом диване, когда же он пустился было в пространные объяснения, она оборвала его тираду одним-единственным словом: Шатун.
Она сказала ему «шатун», подумала Нелли, снова засыпая, и спрятала это слово подальше. А благодаря тому, что подумала, сохранила его. Мы с ним хорошо жили, так скажет Шарлотта позднее, в первый послевоенный год, когда Бруно Иордан был еще в советском плену, а Шарлотта Йордан показывала всем семейную фотографию, где изображен и он, в мундире унтер-офицера. Мы хорошо жили. Настоящий коммерсант, муж-то мой. За что ни возьмется, во всем удача. Между супругами — на фотографии — новый низенький столик, выложенный шестнадцатью кафельными плитками («bleu», то есть в голубых тонах), причем на угловых плитках нарисованы парусники средь бурного моря. За столиком, на диване с цветастой терракотовой обивкой, вытянулись в струнку дети. Мы всегда жили хорошо.
Читать дальше