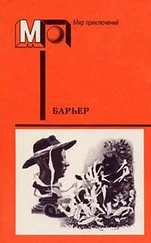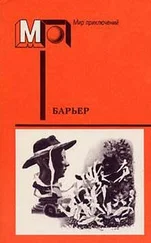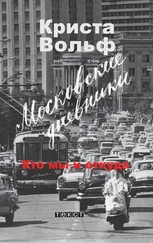А с тех нор любопытство пошло на убыль? Что же, любопытство убывает, если долго тычется в пустоту? Можно ли целиком парализовать детское любопытство? Наверно, человек способен научиться ограничивать свое любопытство безопасными для себя сферами — уж не это ли ответ на вопрос поляка Казимежа Брандыса о том, что позволяет людям жить при диктатурах? («Основа всякого обучения — память».)
Стоило бы спросить: не свойственно ли любопытству сохраняться полностью или же не сохраняться вовсе?
В таком случае Нелли — как принято говорить, «инстинктивно» обходя своим любопытством опасные сферы — мало-помалу неминуемо утратила бы способность различать опасное и безопасное и исподволь вообще перестала бы задавать вопросы? Так, может быть, сообщение юной Эльвиры (она, мол, плакала в тот вечер, когда жгли знамена коммунистов) не было растрезвонено постольку, поскольку Нелли узнала, что взрослые избегают фраз, в которых встречаются слова «коммунист» и «коммунистический»? К тому же и простодушно-искренняя тетя Люция, дававшая ей полезные советы в иной, осуждаемой и запрещенной матерью области — сексуальной,— никогда не упоминала тот вечер, хотя, как жительница Гинден-бургплац, не могла не быть свидетелем тогдашних событий. Тетя Люция молчала даже убедительнее других, ведь ее свободный, безыскусный нрав не допускал ни малейшего подозрения в том, что она может о чем-то умалчивать.
Примерно так, судя по всему, и накладывается фундамент опасливой робости, которая в ближайшие несколько лет загустеет, превратившись в упрямство и скрытность.
Как бы там ни было, лишь через много лет, когда война давно кончилась, Нелли узнала, что в тот жаркий летний вечер ее мама собрала старенькое бельишко, пеленки да фланелевые тряпицы, а «усишкина» бабуля — точь-в-точь как тогда, когда перевязывала Лутцу разбитое в кровь колено (он свалился с велосипеда),— решительно располосовала старую простыню и положила эти лоскутья на дно корзинки, за которой на следующий день пришла девушка-украинка, прислуга майорши Остерман. Но никто, в том числе и мама, не узнал, живого ли младенца родила в лагере для иностранных рабочих подруга украинки, долго ли ему служили пеленками бельевые лоскутья Шарлотты Йордан и понадобились ли они вообще и когда —что более чем вероятно — он умер. Они тогда тщательно проследили, чтобы происхождение лоскутьев, отданных на пеленки, установить было невозможно, и первым делом срезали монограммы; иначе те двое, что явились к Шарлотте Иордан в предпоследний военный год, наведались бы к ней значительно раньше. А потом она, Шарлотта, как-то раз ни свет ни заря нашла у дверей магазина букет полевых цветов. Она никогда не спрашивала девушку-«остарбайтершу» о ребенке, и сама девушка тоже словом про него не обмолвилась, А двенадцатилетней Нелли, дочери Шарлотты, лучше всего было вообще не знать, что в женском лагере возле стадиона лежал в ее старых неленках крохотный младенчик, а может, и умер. Ведь, по слухам, в мужском лагере — он находился рядом с женским — русские мерли как мухи. (Да-да, Нелли своими ушами слышала: как мухи.) В довершение всего —мрачный, испуганный взгляд матери. Безмолвный. Нелли знает, что надо делать: она прикидывается глухой незнайкой.
А в конце концов и становится таковой. Память сохранила лишь этот взгляд и больше ничего. Повод забылся—на долгие годы, вплоть до новой встречи со стадионом. Засеребрятся над краем холмистой гряды макушки тополей, окаймляющих стадион, и вопреки ожиданиям ты первым делом вспомнишь не спортивные состязания гитлерюгенда, которые из года в год проводились на этом стадионе и на которых Нелли попала однажды в пер-вую десятку по бегу, прыжкам и метанию мяча. Ты вспомнишь другое: лагерь! Места, где стояли бараки, теперь не найдешь. Бараки снесены. Здесь стоянка грузовиков Войска Польского, с детства знакомый Нелли полигон расширен. Орудия под маскировочными чехлами, обнаженные до пояса солдаты на физподготовке.
Ты вдруг осознаешь, что люди — знали. Вдруг проломится стена од-ной из тщательно замурованных пещер памяти. Обрывки слов, торопливые фразы, взгляд—им не дозволено было сложиться в связную цепочку, которую пришлось бы уразуметь. Как мухи.
Да. День был жаркий, вроде этого 10 июля 1971 года. И воздух был густой, как нынче, да-да, и пах горячим песком, полынью и тысячелистником, а в картофельной борозде Нелли отыскала отпечаток собственного тела, форму, куда и улеглась, точно в гроб. Однако спустя двадцать девять лет ты поневоле спросишь себя, сколько же замурованных пещер может вместить память, прежде чем перестанет функционировать. Какую энергию и в каком объеме тратит она ежеминутно, ежечасно, чтобы заново герметизировать полости, стенки которых становятся от времени хрупкими и ломкими.
Читать дальше