— Я помню, как Франгиция донимала вас на пляже вопросами, зачем вам апартаменты в двух отелях, если один из них — без океана и находится на вершине высоченного холма.
— Вы хотите последовать примеру нашей общей знакомой и задать мне тот же вопрос?
— Нет. Нисколько. Тем более что вам хочется тишины.
— Мадемуазель, в отличие от Франгиции, вам я отвечу.
— Это не обязательно, — произнесла я, усаживаясь на заднее сиденье.
— «Choupana Hills» может дать то, что не способен дать даже «Reid’s».
— И что же это?
— Одиночество.
— Понимаю.
— Не понимаете, — парировал он после того, как назвал водителю адрес моей квартиры. — Что вы можете знать об одиночестве, мадемуазель?
— Поверьте, синьор Инганнаморте, я могу о нем рассказывать от Санта-Круз до самого Фуншала. Сколько там нам ехать? Двадцать километров? Двадцать пять?
— Не столь важно. Готов услышать вашу версию.
— Да что я могу о нем знать? Говорят, что оно бывает желанным и вынужденным, необходимым и ненавистным, сладким, как мякоть созревшей маракуйи, и горьким, как дешевый индийский кофе. Говорят, что за ним можно лететь на край света, но от него не спасут ни самые отдаленные континенты, ни кипящие от разврата и веселья оживленные города, ни Диснейленд для взрослых, ни дорогие игрушки, ни безлимитные карты American Express. Говорят, что одиночество всегда любит нас сильнее, чем мы его, что любовь эта равна одержимости, что оно никогда не оставляет в покое. Ехидно наблюдает за тем, как нам обрезают пуповину после первого крика, и синхронно вздыхает, осознавая, что нам наступает конец. Иногда оно доводит людей до отчаяния и безрассудства, заставляет выть, скулить и стонать на подогнувшихся коленях. Но по жизни составляя нам компанию, одиночество никогда не шепнет: «Я с тобой». Оно с нами и со всеми, оно друг и враг — спутник без паспорта, которому не нужен шенген или американская виза. Его пропускают на любых контролях и воспевают на всех языках мира, его уважают и боятся, любят и проклинают, потому что оно всегда выходит победителем из игры. Говорят, что за него можно отдать все, что одиночество — неотъемлемая часть свободы, что зачастую это осознанный выбор то ли умных, то ли пресыщенных людей, но… Сколько бы ни было у нас родственников, друзей и любимых, как бы мы ни окружали себя людьми, на какие бы наркотики ни подсели — оно не уйдет, не сдастся и не отступит. Одиночество стреляет до последнего патрона, и даже если обойма в какой-то момент опустеет, оно найдет способ пополнить запасы. Говорят, что можно распахнуть дверь пентхауза в Вегасе, ошалеть от вида из окна, упасть на кровать кинг-сайз и все же заплакать по двум причинам: тебе шикарно одной, но ты никому не можешь об этом рассказать. Потому что тебе шикарно и одиноко. А можно в компании опустошать магазины в итальянской столице и получать всевозможные материальные блага, мечтая лишь о том, чтобы остаться наедине с собой. Чтобы никто не доставал тебя. Говорят, что временами становится больно в районе солнечного сплетения, хотя для болезненных ощущений нет никаких медицинских обоснований, что выпрыгнувшие из окна или перерезавшие вены люди — слабаки. Нет, они не слабаки. Просто одиночество победило. Конечно, я ничего об этом не знаю, синьор Инганнаморте.
— Мадемуазель, вы меня обманули. — Дженнаро пристально смотрел на мелькающие островные огни, постоянно утопающие в тоннелях. — Вы сказали, что ваши познания в области одиночества не меньше, чем расстояние от Санта-Круз до Фуншала. Мы проехали всего три километра под взлетной полосой. Поэтично, но не очень убедительно.
— Так мы все это время ехали под сваями взлетной полосы?
От неожиданности я проглотила «поэтично, но не очень убедительно».
— Да. Если нам повезет и ветер наконец угомонится, я как-нибудь покажу вам, в чем заключается особенность этого аэропорта. А когда был самый одинокий момент?
— Мне кажется, что всегда. Всегда был самый одинокий момент.
— А если подумать?
— Зачем вам это?
— Я спрошу еще раз: когда был самый одинокий момент?
— Я не знаю… Наверное, в реанимации, когда я понимала, что умираю, нажимала на кнопку, звала на помощь, но никто не подходил. Мне казалось, что это длилось часами. Если одиночество можно любить в такие секунды, то беспомощность — нет. Беспомощность разъедает до такой степени, что ты начинаешь жалеть себя, а это худшее, что есть в мире. Хуже любой физической боли.
— И что потом?
— А потом жалость перерастает в отвращение к себе. А отвращение к себе — это почти дно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
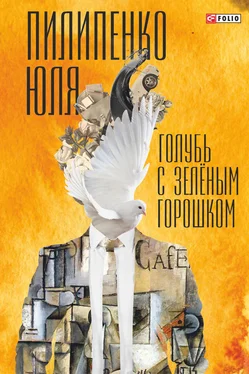
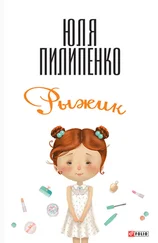



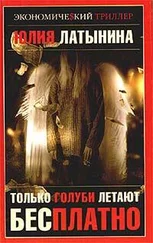
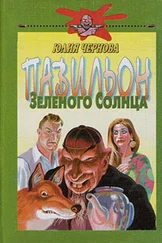

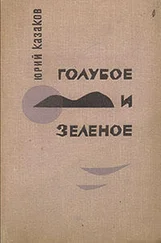


![Юлия Кильтина - Голубая кровь [СИ]](/books/413115/yuliya-kiltina-golubaya-krov-si-thumb.webp)
