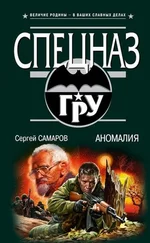За окном тянулись, плавно ускоряясь, серые избы «немытой России», маковки церквей, кладбища (толчеи лепившихся друг к другу крестов, процессии надгробий, взбиравшихся на косогор, как будто и после смерти люди продолжали соревноваться в том, кто изловчится забраться выше и оказаться на самом верху); отлетали от окна лесопосадки, бескрайние черноземные пашни для того, чтоб, описав дугу, возвратиться на место: казалось, что пейзаж (визуальный обман) движется по кругу и деревья вращаются вокруг оси, повторяя поворот пейзажа. И знакомый этот с раннего детства обман воздействовал на Камлаева успокоительно (все возвращается, и можно вернуться в детство, достаточно лишь примоститься у окна несущегося поезда). Камлаев узнавал, и Нина тоже узнавала и показывала Камлаеву на тощих, угольных грачей, взлетавших над бороздами, говорила, что земля успевает прокрутиться под птицами, до того как они усядутся опять как будто на то же самое место, с которого взлетели. И даже дети на маленьких станциях, как и вечность тому назад, махали им вслед — «славные», как сказала Нина, проникаясь какой-то преувеличенной, отчасти пародийной нежностью к ним, промежуточным, придорожным, к их черным от въевшейся пыли ногами, к их деревенской, соломенной белоголовости.
На больших станциях, где останавливался поезд, она сходила и возвращалась назад с сушеными, как будто залакированными лещами на леске, с промокшим из-под низу газетным кульком, набитым почти черными вишнями, с целлофановым пакетом оранжевых вареных раков — одним словом, со всей той всячиной, которой торговали бабы и старухи, подходившие к поезду и смирно стоявшие вдоль платформы.
«Не могу с собой справиться, — объясняла она, виновато пожимая плечами. — Как ребенок, ей-богу. Обязательно мне нужно что-нибудь у них купить. Не могу не купить. Вот так выйдешь на платформу, и так хочется всего, чего обычно не хочется. Как будто должна этим женщинам: они ведь тащили сюда все эти корзины, ведра…»
«Тебе осталось притащить шахматную доску, нарды, — говорил Камлаев, — две дюжины расписных деревянных ложек и деревянного павлина с распушенным хвостом. Лещами мы что будем делать — гвозди забивать?»
Иногда на том участке, где вставал их вагон, никакого перрона вообще не оказывалось — лишь щебенка да голая земля и расстояние в два метра между землей и подножкой. И тогда Камлаев спрыгивал первым и ловил Нину за талию. И так жарко горело, так рядом оказывалось ее лицо, что оставалось лишь изумляться, как он ее, такую, заслужил, за что она, такая, ему подарена. Он был на редкость сдержан и даже стыдлив: предел того, что себе позволял, — притронуться к Нининым волосам, пройтись, не отнимая пальцев, по ее руке от запястья до локтя. Позабытая и навсегда, казалось, им утраченная трудность прикосновения сейчас была возвращена ему, и он вновь ощущал тугое сопротивление воздуха, когда подносил свои пальцы к ее волосам, щеке. Вокруг Нины было некое сияние — вроде той светящейся капсулы, в которую заключен возносящийся на небеса Христос на старых иконах, и вот на это сияние, несомненно имеющее физическую природу, Камлаев и натыкался, и сила Нининого притяжения была равна силе отталкивания. И это не Нина отталкивала его (из инстинктивного неприятия чужой, камлаевской плоти), а он сам отталкивался, как будто не был до конца уверен в том, достаточно ли он силен, чтобы войти вот в это невидимое свечение и остаться в нем. И «походная аптечка» («Мартель») не помогала, не давала налиться тяжелой и слепо-нерассуждающей силой, нацеленной на извлечение бедного телесного удовольствия. Она была другим человеком, не ранимым и уязвимым даже, а просто другим — он отчетливо это понимал, хотя обычно и не принимал женской инакости в расчет, вторгаясь, врываясь в чужое существование и походя производя в отдельном этом мире разрушения, разгребать катастрофические последствия которых он полностью предоставлял самим своим жертвам да еще гипотетическим каким-то спасателям, которые должны были появиться после него.
С камлаевской точки зрения (а точка зрения могла быть только камлаевская), женщины самой по себе не существует, женщина есть только «тело и отраженный свет». Но эта женщина — была. Ни с того ни с сего. Отдельно от Камлаева. Сама по себе. Другая и драгоценная. И если бы она однажды вобрала в себя весь камлаевский свет и ушла, то Камлаеву бы стало худо, очень худо.
Стояли и смотрели, как сначала отцепляют, а затем прицепляют электровоз. На соседних путях стояли разномастные вагоны с паролями порядковых номеров и каббалой загадочных буквенных сокращений на бортах, цистерны в потеках мазута, зеленые контейнеры, в которых вещи, истосковавшись по своим хозяевам, с нетерпением ожидали отправки. А еще свежевыкрашенные, желтые, как желток деревенского яйца, трактора, и на каждой платформе картонная табличка с надписью от руки «под горку не толкать».
Читать дальше