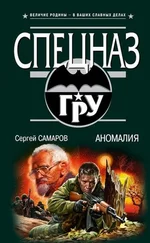В бесконечности открывшегося ему звукового потока была такая неограниченная свобода, что эта музыка могла существовать и сохранять порядок безо всяких повторов и безо всякого «развития темы», так, как если бы она была устроена по законам, превосходящим скудное человеческое разумение.
Через минуту он уже спрашивал себя — что это было? Подобной музыки ему еще не доводилось ни слышать, ни играть, и эта музыка была как наваждение. И совершенно ясно было, что сам Матвей — такой еще, в сущности, неразумный, маленький, даже жалкий — своей собственной волей ну никак не мог сочинить подобную музыку, не способен был извлечь ее из себя — эта музыка попросту в нем не уместилась бы. Выходит, она возникла и пришла откуда-то извне. А Матвей лишь пропустил ее через себя — как провод пропускает электрический ток. На какую-то одну секунду Матвею показалось даже, что и он, и отец, и мать, и Альбина, и даже Раевский — все они существуют на свете не просто так, не сами по себе, не как белковые тела, а именно благодаря кому-то… А иначе откуда было взяться подобной музыке?.. Что-то с ним случилось, и это было непоправимо.
В белоснежных мохнатых халатах они шли к бассейну, наполненному водой из термальных источников, и, сбросив с себя бесформенный балахон, натянувшись струной, она вперед руками бросалась в воду. И входила практически без брызг — подобно профессиональным прыгунам, стоящим на конце пружинящей доски и сигающим с пятиметровой вышки. Постукивая мундштуком о крышку портсигара, он смотрел, как она без усилий оказывается в самом центре бассейна, одним стремительным рывком переворачивается на спину и замирает в блаженной неподвижности, открыв его взгляду чуть выпуклый мысок в межножье, блестящую ложбинку живота, торчащие сквозь ткань купальника соски и безмятежно запрокинутое лицо с закрытыми глазами. С усмешкой он припоминал нашумевший «водный» хэппенинг Нихауса, когда под водой размещались мощные динамики и слушателям предлагалось дрейфовать на спине, надолго останавливаясь в каком-нибудь участке бассейна. Издевательский выверт (предельная реализация) романтической метафоры — «погружение в музыку». Пародия на пребывание в сакральном пространстве, которое находится везде, напоминая бескрайний океан с бесчисленными мелодическими сгустками. Замерев, покоясь на одной из мелодических волн, ты можешь ощутить себя причастным к бескрайнему и бездонному мелосу вообще. Просто гулкая фальшивая октава, доходящая до слуха из-под воды. И более ничего. А вот Нина воды боялась и плавать не умела, учиться не хотела, хоть он и утягивал ее за собой со словами: «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет…» Иногда удавалось ее раззадорить, и тогда, близоруко прищурясь и раскинув руки, она боязливо входила в воду и месила ее, заходя все глубже, пока курчавая пена не приливала до самой середины бедер. И тогда она делала довольно неуклюжую попытку опуститься в воде на четвереньки, а Камлаев в это время греб на берегу, шутовски показывая ей, как правильно делать движения, и она пыталась плыть, но тут же, в страхе захлебнуться, вскакивала на ноги. Волна толкала ее с силой в бок, вынуждая подаваться и чуть ли не сбивая с ног, и тогда она, так же меся тяжелую, тугую воду, возвращалась назад и, упав в изнеможеньи на песок, заявляла: «С меня хватит».
Он знал ее уже почти полгода перед тем, как осмелился позвонить и спросить с ходу:
«Поедешь со мною в Крым?..» — «Это что — приказ? — отвечала она со смехом. — Ты, я вижу, настолько привык к незамедлительному согласию, что давно уже разучился упрашивать».
Уже на следующий день они садились в поезд (самолетов не выносили ни он, ни она) в двухместное купе вагона «эконом-класса» — с трехдневным запасом Нининого шоколада и камлаевской «походной аптечкой», состоящей из запасов «Мартеля», — и получали постельное белье, которое «непременно будет сырым», как сказала Нина, и которое и в самом деле оказалось сыроватым — эконом экономом, класс классом, но эта влажность поездных простыней и наволочек и вправду, похоже, была явлением вневременным и совершенно неистребимым. «Приятно, что есть в этом мире что-то прочное и неизменное, — усмехался он, — что сохраняется за границами отдельно взятой человеческой жизни. Нас не станет, а кто-нибудь по-прежнему будет прижиматься щекой к такой же влажноватой подушке. Не знаю, как тебя, а меня этот факт обнадеживает и даже успокаивает как-то — тот факт, что какие-то вещи, мелочи, еще долгое время не умирают. Ты знаешь, в чем дерьмовость жизни в двадцатом веке и далее? В том, что предметно-вещественная среда всего за каких-нибудь пять-десять лет изменяется до неузнаваемости. Где они теперь, семидесятые, восьмидесятые? Где проигрыватели с корундовой иглой и перемотанной синей изолентой ручкой? Где „Артек“ и „Орленок“? Где ботинки на „манной каше“? Где стеклянные чернильницы весом с настоящую гранату, которыми так здорово было швыряться в чужие окна — при удачном броске можно было пробить двойную раму и оставить изнутри на стеклах черное или красное чернильное пятно? Ощущение такое, что живешь бесконечную вечность: твоя жизнь невыносимо, чудовищно расширяется, умещая в себя сразу дюжину различных эпох, и как раз из-за этой гипернасыщенности каждая отдельно взятая эпоха обесценивается. Теряется живая связь с вещами, не успеваешь полюбить, влюбиться в них и заранее видишь бессмысленность подобной влюбленности: все равно ведь обесценятся, превратятся в хлам, в антиквариат, заместятся новыми вещами, которые тоже просуществуют недолго. Дом утрачен и заменен бесконечными переездами из гостиницы в гостиницу. Ничего своего и постоянного — все арендованное и временное. Ну, вот я вырезал на дереве перочинным ножом „Матвей + Нина“, пронзил угловатое сердце любовной стрелой и пребываю в наивной, напрасной убежденности, что это безыскусно нацарапанное сердце и наши имена надолго врастут в древесную плоть, но проходит всего лишь полгода, и памятный дуб уже спилен под корень, старый парк уничтожен, и старый наш дом сровнен с землей, расчищена площадка под новое строительство, и в новые дома поселяются какие-то новые козлы, которых я не знаю и знать не хочу».
Читать дальше