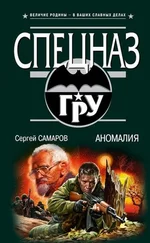Удерживаясь с трудом на подгибающихся ногах, он принялся спускаться, не чувствуя ступенек, а Альбина со все тем же сумрачным, бесстрастно-деловитым лицом спускалась следом. Куда было идти и где она на самом деле жила, Матвей не знал. То, что она могла «завлечь» его, завести неведомо куда, не заботило его совершенно, даже мысли такой не мелькнуло — он об этом ни на секунду, вообще не задумался, не подумал даже о том, что об этом не подумал.
Они спустились во двор, и она пошла — о, как она пошла! — не ведая сомнений, нестесненно, не боясь ничего, чуть развинченно, лениво и двигаясь так, как единственно могла, и никаким другим образом не иначе. И ничего она к своей поступи, помимо «данного природой», не прибавляла, и было видно, что ей вообще не свойственно что-либо демонстрировать вдобавок к тому, что в ней изначально было, и тут все другие, когда-либо виденные Матвеем женщины показались ему несносными кривляками.
Они прошли под аркой, вышли на улицу. Камлаев следовал за ней, куда-то поворачивал, не узнавая при этом ни улиц, ни домов в таком ему, в общем-то, знакомом районе. Тут прояснилось, что молчания она отчего-то не любит и ей необходимо постоянно что-то говорить и получать незамедлительный ответ, и снова говорить, и снова получать ответ. И это при том, что улыбалась она редко. О себе рассказывала с охотой, много, подробно и довольно откровенно, но при этом так, что все самое важное, значительное, по-настоящему сокровенное из этого рассказа каким-то образом вымарывалось. Она работала манекенщицей в Доме моделей на Кузнецком Мосту и говорила, что приходится менять по дюжине платьев за вечер, и что с ними там не церемонятся, и что в раздевалке постоянные сквозняки и вечно холодно, особенно зимой, а у нее болит спина, сквозняков не выносит, и приходится кутаться в пуховую шаль… И еще что у нее грошовое жалованье и вечно не хватает денег, получается смешно: демонстраторша одежды, а сама по-человечески одеться не может. «Я хочу уйти, — сказала, — вот только пока не знаю куда».
Вдруг она чуть наморщилась, словно от боли, и потерла спину.
— А вот у тебя, я думаю, никакого хондроза нет?
— Нет, — отвечал Матвей, на секунду отчего-то подумав, что она говорит о хандре, о той необъяснимой тоске, которая вдруг накатывает ни с того ни с сего. И только с опозданием понял, что Альбина на самом деле лишь опустила первую половину длинного слова и речь вела не о хандре, а о болезни хрящевой и костной ткани межпозвоночных дисков: вот этого-то он и помыслить не мог — что, двигаясь с такой свободой, она находится в том состоянии, которое свободу в движениях ограничивает. Непредставимо это было: что двигаться ей временами тяжело, затруднительно, больно, и было в этом что-то от страданий Русалочки, осужденной в расплату за подарок подводной ведьмы постоянно идти как по острым ножам и при этом улыбаться, не подавая виду.
А они уже тем временем дошли до Альбининого дома, поднялись на второй этаж, и она, с полминуты повозившись с замком, толкнула внутрь квартиры деревянную крашеную дверь. Матвей, очутившись в прихожей, стал сбивать с ног ботинки — тем подзабытым, детским, едва ли не детсадовским приемом, когда сначала ударяешь носком одной ноги о каблук другой, а потом бьешь вторым каблуком об пол. Всунув ноги в обтерханные тапочки, он отправился искать Альбину — она была на кухне, ставила чайник. И уже успела — мигом — переодеться, выскользнуть из юбки и сейчас, голоногая, в коротком, едва прикрывающем зад кимоно стояла у плиты.
— Нет горячей воды у меня, — сообщила Альбина, не оборачиваясь.
— Зачем горячая вода? — не понял Матвей.
— Примешь ванну.
Матвей мгновенно и беспросветно отупел, настолько не понял: зачем, для чего? Но по тону ее было ясно, что предстоящее Матвею мытье — условие обязательное, совершенно необходимое. Он кое-что слыхал (читал) о ритуальных омовениях и последующем умащивании благовониями, которые производились перед тем, как «возлечь на ложе…». Но что же это означало? У Матвея пол ушел из-под ног. Он даже боялся назвать Альбинино намерение по имени. Неужели она все так запросто и уже бесповоротно решила? С такой легкостью, с таким отсутствием сомнений, без всякого взвешивания?
— Проходи вон туда, в комнату, и раздевайся, — сказала она так, как говорили подобные слова врачи, которым предстояло прижиматься к голой Матвеевой груди холодным металлическим кружком фонендоскопа.
— Но это самое… — открыл было рот Матвей, но это его «это самое…» так и повисло в воздухе, не продолжившись ничем. Все время, когда дело не касалось отвлеченного философствования, Альбина говорила в повелительном наклонении — «проходи», «раздевайся» — и ни секунды не тратила на объяснения того, почему Матвею нужно так поступать. Все это для нее само собой разумелось. И Матвей все делал в точности, и шел за ней, куда она указала, и не мог никуда от Альбины уйти. Она и отпускала на все четыре стороны, но он сам не уходил.
Читать дальше