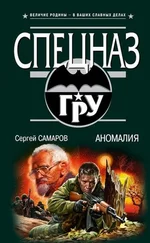— О, Камлайка! — отпрянул от неожиданности Раевский. — Дай пять, Мэтью! — повелел он зычным басом, и Матвей, хоть было и не в новинку, но все же до жара, до красноты в ушах польщенный, протянул Раевскому ладонь. — А тебя, я смотрю, все гоняют, как цирковую лошадь по кругу.
Матвей издал в ответ досадливое «а-а…» и отмахнулся. На лицо он натянул маску досады, но при этом почувствовал себя польщенным: что и говорить, одно только обращение к нему Алика — самого что ни на есть стильного чувака, вызывавшего у всех девушек Мерзляковки томительно-сладостное ожидание сексуального чуда, — дорогого стоило и заставляло сердце обливаться горячей благодарностью. «Фирмовые» Аликовы джинсы, остроносые, из светлой замши ботинки, коричневый замшевый клифт, рубаха из черного шелка с широченными отворотами высокого стоячего воротника, вороная, отливающая сталью шевелюра почти до плеч и репутация рокового соблазнителя — все это создавало вокруг Алика ореол исключительности, избранничества и невиданного превосходства над всеми прочими. Лениво-снисходительное превосходство ощущалось в каждом жесте, в каждом слове Раевского; говорил он, как правило, нехотя, со столь явным нежеланием разлепляя губы, что тотчас же ясно становилось — он делает собеседнику величайшее одолжение. Всем известно было, что, помимо занятий по классу трубы, Раевский овладевает приемами игры на запрещенной всем студентам электрогитаре.
— Ты мне вот что, чувак, скажи, — продолжал Раевский. — Ты откуда стандарты знаешь? Э, хорош придуряться! Такие стандарты. Я ж тебя не допрашиваю. На слух снимаешь?
— Ну да, на слух, — отвечал Матвей.
— Ну, вот я и вижу — втыкает чувак, — продолжил Раевский, тыча в Камлаева сигаретой. — Не хочет человек зацикливаться на всей этой академической лаже. Я тебе один секрет открою, Мэтью: музыка, которой нас здесь учат, есть не что иное, как давно окаменевшее дерьмо.
— Да ладно, есть и живая, настоящая музыка, — снисходительно бросил расхрабрившийся Матвей.
Раевский скривился и наморщился так, как если бы ему под самый нос подсунули ядовитую жабу.
— То музыка, а то рок-н-ролл, — назидательно отрезал он, как будто раз и навсегда отделив живое от мертвого, зерна — от плевел. — Нет, ну, я не въезжаю, как успел ты так наловчиться. Чую, у тебя большое будущее, чувачок. Кстати, ты чего сегодня вечером делаешь, а? А то тут у нас нехилый процесс на хате у одного чувака намечается. Вот и покажешь всем нашим, на что ты горазд. Ты еще, конечно, пионер, но зато «Love me do» так отмачиваешь — любо-дорого послушать. Там такие стильные кадры будут — сам лично неделю отбирал. Целок из себя не строят, не ломаются, возьмем вина, пообжимаемся, а там — как пойдет… — И Раевский хмыкнул многозначительно, выражая полнейшую уверенность, что все пойдет как надо.
Матвей настолько взбудоражился, что на мгновение лишился дара речи. Он дрожал, как борзая на сворке, готовая в любой момент сорваться вслед за зверем, от волнения почти не чувствуя собственных конечностей.
— А что я дома-то скажу? — спросил он и тотчас же испытал отвращение к капризной гнусавости собственного голоса. Щенок, пионер, как маленький — ей-богу!
— Да чего тут говорить-то? Скажи все, как есть. Или что, тебя тогда не пустят, да? Ну, скажи, что намылился с герлою в кино. Ты со своими пионерками в кино-то ходишь?
— Ну, хожу.
— Нну хханжу, — прогнусил, передразнивая Матвея, Раевский. — Ты за вымя хотя бы хоть раз подержался?
— А может, и подержался!
— Ну, ладно, ты это… не обижайся. Подержался так подержался.
В любом другом случае Матвей бы нашелся что соврать родителям, и вранье бы отлетело от зубов автоматически: прогулял же он за три последних класса целых две с половиной четверти — разумеется, не подряд, а суммарно, — да и вечером порой возвращался домой чуть ли не в половине первого ночи, засидевшись то у Таракана, то у Володьки Крымова. Нужно было лишь привлечь в союзники внушавшую доверие личность — например, Кошевого Генку, круглого отличника. С безобидным этим очкариком-ботаником — и мать верила в это — Матвей ни за что не станет шляться по подворотням.
Нет, соврал бы Матвей родителям в любом другом случае с легкостью, но таким оглушительно-невозможным было предлагаемое ему на сегодня грехопадение, что и ложь тут требовалась особенная, так сказать, подобающая случаю, отводящая все подозрения, железная. Признаться честно, он лишь краем уха слышал, что происходит на таких вот процессах, на которые обыкновенно собирались чуваки на год, на два старше его, давно уже бреющие щетину, половозрелые самцы, умевшие лопотать на странном, полуанглийском наречии и прикинутые по фирме. Он знал, что процессы происходят у кого-нибудь на «флэте», у того, чьи «пэренсы» свалили на дачу или вовсе на полгода за границу — поднимать экономику какой-нибудь дружественной африканской страны. Он знал, что непременные составляющие процесса — это музыка, «дринкалово» и девочки, причем музыка тут, по правде сказать, стояла по важности явно не на первом месте. Он знал, что девочек — «кадров» — клеют прямо на улице, в парке, в троллейбусе (за день до намеченного на хате бардака), что представлялось ему, конечно же, дерзостью неслыханной — это раз, а во-вторых, задачей совершенно невыполнимой и если и доступной кому-нибудь из смертных, то только такому «титану Возрождения», как Раевский. Шутка ли — убедить совершенно незнакомую «герлу» (каким образом, с каким лицом и какими словами?) заявиться через день на хату, в которой до этого она никогда не была.
Читать дальше