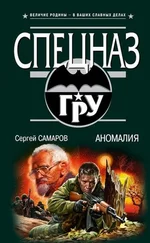— Вы сказали ей, что собираетесь связаться со мной?
— Вообще-то нет. Я полагал, если вы до сих пор не появились здесь, у нас, между вами произошло нечто серьезное. И я полагал, что она отнесется к моему предложению связаться с вами негативно — в силу причин, мне лично неизвестных. Но мне показалось важным поставить вас в известность и пригласить сюда, потому что вы имеете на это право. А во-вторых, супруга ваша чрезвычайно нуждается в поддержке действительно близкого, родного человека. И кто, как не вы, ей способен эту поддержку оказать, хотя сама она, возможно, этого сейчас не понимает. Но я думаю, все будет в порядке. Как раз такое положение, как у вас сейчас, и должно вас сплотить и заставить позабыть все прошлые обиды, — сказал неандерталец с простосердечной убежденностью. — Пожалуйста, до конца коридора, последняя дверь направо.
— Спасибо. — Спасибо, мой бедный эскулап, наивный спасатель поперечно предлежащих младенцев и их тридцатилетних мам с преждевременным созреванием плаценты, спасибо, неандерталец, дай бог твоим рукам не дрогнуть в самый ответственный момент, вот только есть многое на свете, друг мой Дустов, что и не снилось тебе по разряду «прошлых обид», потому что покорный твой слуга повинен отнюдь не в точечных обидах, а в непрерывном и совершенно безбожном небрежении по отношению к твоей последней пациентке. Тебе и не снилось, какие пытки способны причинять не воспаленные яичники, не преждевременно раскрывшаяся матка, а вот этот потный господин, который смотрит на тебя с таким неподдельным страхом за жену и ребенка. Тебе и не снилось, какие мучения способны причинять не мысли, что младенец каждую секунду может задохнуться в материнской утробе, а вот этот господин, идущий по коридору и взволнованный, как пожилой нацистский хирург перед встречей со своим бывшим пациентом из Освенцима. И, пытаясь натянуть маску вины, раскаяния, запоздалого преклонения перед тем, на ком ставил опыты, — «столько лет утекло», «будем друзьями», — он осторожно стучит сейчас в последнюю по коридору дверь и, не дождавшись ответа, осторожно толкает ее «предательски задрожавшей» рукой. И входит, инстинктивно, помимо воли втянув голову в плечи, как будто опасается удара; подслеповато прищурившись, входит, как будто старается разглядеть в сидящем на кровати незнакомом старом человеке одного из своих подопытных сорокалетней давности. Нет, она ничуть не изменилась, бедная, родная, только вот поворачивается так медленно, как будто через силу, да еще под глазами темные круги, под все такими же презрительно прищуренными глазами, чья близорукость принимается обыкновенно за выражение невиданного высокомерия.
— Нина, — хрипнул он, а она смотрела на него, все как будто не узнавая, и Камлаев увидел, каким она тоскливым захвачена страхом, не оставлявшим ее все эти дни, таким же точно страхом, в каком Камлаев летел сюда; у этих страхов был один химический состав, одно воздействие: этот страх пуповиной обвивал тело, и пуповина мешала, душила, и инстинктивно хотелось избавиться от этого удушья, но еще сильнее ты хотел, чтобы этот страх продолжался, потому что то был страх за живого младенца, и этот страх мог умереть только вместе с самой жизнью. Так думала Нина, полагая, что в этом чувстве своем она одна на целом свете и никто сейчас, кроме нее, не может испытывать ничего подобного…
Но Камлаев не мог ошибаться, столь мгновенным и ослепительным было это понимание: их обвивала одна общая пуповина, и страх их был общим, неразделимым, пусть сами они того и не хотели, пусть сами они давно в то и не верили. Природа не оставила им выбора, природа во всем распорядилась за них; она придвинула, швырнула их друг к другу, она придавила Нину к Камлаеву ребенком, как камнем. Им некуда было деваться, они могли ненавидеть друг друга, не испытывать друг к другу ничего, но лишь до той поры, пока были вдвоем, пока были предоставлены сами себе. Но как только появился третий, в высшей степени уязвимый, слабый и болезненно зависимый от матери, ни Камлаев, ни Нина уже не могли принадлежать себе.
— Нина, — позвал он хрипло, и как только она повернулась, что-то будто толкнуло Камлаева в спину, к этой женщине с побледневшей, попрозрачневшей кожей, и он упал (вернее, тело его рухнуло) перед Ниной на колени и, захватив ее руки в свои, усилился что-то сказать, но слова застряли в горле; толстый, рыхлый язык заворочался, производя не то просительно-виноватое, не то благодарное мычание.
Читать дальше