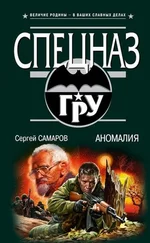Тут он заслышал внизу скрежетание, визг; толкнув внизу входную дверь, кто-то вверх поднимался одышливо, тяжело. Та тетка с запаянными в линзы очков подозрительными глазами, которая впустила его сюда. Поравнявшись с ним, оглядела с головы до ног: он действительно имел вид странный, если прямо не сказать идиотский — высокий, поджарый мужчина «представительной наружности», лет сорока пяти на вид, осанистый, импозантный, с частой сединой в слегка вьющихся волосах. Этот облик его и «прикид» так откровенно не вязались с его «положением», с вот этим подростковым прозябанием в подъезде, с воровским подкарауливанием…
— Вы кого поджидаете-то? — снизошла вдруг к его страданиям тетка. — Ну, из какой хоть квартиры? А… этих нет… третий день уже нет женщины той… И с тех пор не появлялась. Да точно, я вам говорю. Тут снимали какие-то, парой, уж не знаю, женатые или нет, а потом уехали, а неделю назад заявилась она… ну, хозяйка, ведь Ниной зовут? Точно не было ее, ни вчера, ни сегодня, три дня… Ну, это уж, милый мой, она мне не докладывала — куда, да зачем, да когда. Как уезжала — нет, не видела. А ты кто ей будешь-то, а, милый друг?..
Но Камлаев, уже сбегая по лестнице, лишь махнул рукой.
«Плод нельзя оставлять» — слова той красивой, строгой врачихи как будто горели на исподе лба, отравляли, обездвиживали. Она никому ни о чем не сказала, даже верной Наташе, которая звонила по десять раз на дню, потому что Наташин ответ был заранее известен. Наверняка ведь скажет тоже, что с природой сражаться бессмысленно, что такова судьба. «Остается лишь принять приговор и позаботиться о себе». Ей не оставили ничего, ей не позволили даже сходить с ума от тревоги и неопределенности. Ее с самого начала поставили перед фактом, на нее опрокинули данность. «Нет» значит «нет». И какое-то время, счет которому она потеряла, она сидела в кресле с ногами и не двигалась, оглушенная, оцепеневшая. Больше некуда было жить: как раз ее живая, оплодотворенная после стольких безуспешых лет яйцеклетка, что составляла весь смысл ее нынешнего существования, и была отнята у нее и объявлена убийцей, зараженной, разрушающей… (Как могла она в тот день не понять того, что это случилось, произошло, в тот день, когда они последний раз с Матвеем…) И все эти дни, недели, осчастливленная той кошмарной тошнотой, влюбленная в бензиновый запах, она и представить себе не могла, что происходит там с зародышем и насколько они вдвоем близки к гибели. Почему, ну почему, Господи, ты допускаешь такое? Разве может такое быть, чтобы тело женщины, все ее существо вдруг начало противиться рождению в нем новой жизни? И она ненавидела собственное тело, мерзкое тело, эгоистичное тело, самовлюбленное, бездушное, раз это тело отторгало то, что как раз и давало его существованию смысл. А потом, когда ненависть эта слабела, она себе говорила, что не верит никому. Она не верит врачам и не поверит Наташе, как только та скажет, что Нине, конечно же, нужно во всем слушать врачей. Разве может быть такое, да и где это видано — чтобы мать и ребенок, женщина и зародыш вступали друг с другом в смертельную вражду? В то, что женщина, в которой не осталось ничего человеческого, может стать убийцей своего ребенка, еще верилось, а вот в то, что младенец, безгрешный и невинный, сам обреченный на погибель, может стать убийцей носящей его под сердцем матери — нет, нет и еще раз нет. Но и здесь она предвидела тот единственный ответ, который могут дать ей и врачи, и Наташа: «Да это сплошь и рядом…»
Ей было известно, что в критических ситуациях, когда врачам приходится выбирать между жизнями матери и ребенка, врачи практически всегда жертвуют ребенком. Таков неписаный закон, условие общественного договора, и это, должно быть, объясняется тем, что женщина, выжив, может забеременеть и родить еще. (Ну, не думать же, в самом деле, что между личностью-матерью и еще не-личностью-ребенком врачи выбирают личность. Как будто убийство взрослого человека менее благовидно, чем убийство ничего не чувствующего несмышленыша.) «Еще и еще». Но она-то ведь не может «еще и еще». В отличие от них, от всех остальных, от здоровых. И ничем свое здоровье не заслуживших. Она больше уже никогда. Она вообще не должна была беременеть. И вот. «И вот», — как сказала она той врачихе, горделиво указывая на свой еще не вспухший, не разросшийся, но уже налившийся тяжелым торжеством живот. И она им его не отдаст. Своего ребенка — первого и последнего. Потому что эта яйцеклетка, единственно живая в ней, потому что эта пуповина, связующая женщину с зародышем, — единственная ниточка вообще, связующая Нину с жизнью, с подлинной, по-животному честной жизнью. И если для рождения необходимо, нужно так, чтобы младенец, изнуряя мать, забрал у нее все силы, всю жизнь, какая только в ней осталась, то пусть это будет так. Пусть он, укрытый от мира непроницаемой оболочкой, возьмет у нее все соки, пусть он, бесцеремонно жадный, смертельно истощит ее, но пусть живет. Лишь бы там, под этой непроницаемой оболочкой нашлось все обязательное и все необходимое для того, чтобы он выжил и жил.
Читать дальше