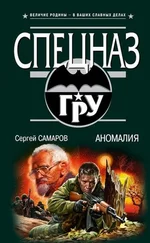«Если Он мне его дал, то не затем же, чтобы отнять. Но, чтобы он был, необходимо пройти испытание. Вот и все решение, вот и весь ответ», — вдруг подумалось Нине (а сомнений в том, что ребенок ей послан, подарен вопреки природе и судьбе, быть не могло), и тут же ей стало так ясно, так свободно, так легко на душе, как будто необычайно могучая сила подхватила ее, такая огромная в сравнении с Ниной, такой незначительной, такой небольшой и слабой, и, подхватив, понесла куда-то вперед к исполнению долга, от которого нельзя было отлынивать.
И она отправилась в другую, в лучшую больницу, какую только могла найти, выбирая клинику по рекламным проспектам и перепрыгивая с одного интернетного банера на другой (дороговизна предлагаемых клиникой услуг как будто подразумевала большую снисходительность врачей и гарантировала, что там не предложат отказаться от ребенка). Но и в этой частной клинике ей сказали все то же самое, что и первая женщина-врач: что, сохраняя беременность, Нина бессмысленно подвергает себя смертельному риску и что, настаивая на своем, она совершенно упускает из вида, что ребенок заведомо обречен. Другими словами, эти самые эскулапы, конечно же, готовы положить ее в отдельную палату, но только для того, чтобы беременность прервать (эффективно, безболезненно и безопасно), а затем предпринять необходимые меры по восстановлению пошатнувшегося Нининого здоровья. А вот следить за протеканием беременности (с серьезной патологией) и заботиться о ребенке врачи отказывались на том основании, что они врачи, но никак не добровольные убийцы.
Она не собиралась с ними дальше разговаривать и поехала в еще одну, уже третью по счету, клинику, а затем в четвертую, и везде ей говорили то же самое — что ребенка «по идее», «по всем показаниям» у нее быть не должно и что произошла нелепая, случайная, одна на миллион ошибка; что беременность ее ошибочна, противоестественна и сейчас природа (заодно с самим Нининым организмом) трудится над тем, чтобы эту ошибку исправить. В четвертой по счету больнице ей предложили составить письменное согласие — чистейший абсурд — не на отказ от ребенка, а на его оставление. И даже в Центре репродукции человека, который возглавлял временно пребывающий в Канаде Коновалов, ее все так же предупреждали до посинения, говоря, что ребенок все равно не получит всех необходимых для нормального роста и жизни питательных веществ, что в Нининой утробе ему будет слишком тесно, чтобы он мог выжить и не задохнуться. С ней говорили жестко и грубо, с ней говорили мягкими, обтекаемыми фразами, но суть была одна: ее малыш — не жилец, и нужно думать о сохранении собственного здоровья. И она уже не знала, кому больше не верить — врачам или самой себе; былая решимость ее размывалась под напором врачей и тех математически выверенных доказательств, которыми они оперировали.
Она осталась одна, и потому тоскливая обреченность, которую она испытывала, была вдвойне мучительна. Она даже завыть, накричаться, наплакаться вдоволь — до горечи, до пустоты — не могла, потому что некуда было выть, некуда плакаться, не в кого было уткнуться, не к кому прижаться. Все родные ей люди умерли или перестали быть для нее родными. «Мама, мамочка, милая мама, как же трудно без тебя, ты одна все бы поняла, ты одна прижала бы меня к груди и сказала… но вот что бы ты сказала, я не знаю: неужели „правильно, борись, так и нужно поступать, бороться за ребенка, даже если знаешь, что тебе при этом угрожает смертельная опасность, потому что если бы у меня был выбор, такой же, как у тебя сейчас, выбор между мной и будущей тобой, то я бы выбрала тебя. Потому что никакого выбора здесь на самом деле нет и быть не может. Потому что это естество, а естество не выбирают. Женщина — как природа. Как природа, всякий раз умирающая осенью для того, чтобы весной разродиться новой жизнью. И если женщина должна умереть при родах, то это тоже часть ее естественного назначения, и, сохраняя плод в себе до счастливого исхода, до последней минуты, она всего лишь выполняет это предназначение, не отклоняясь от него ни на йоту“. Не уверена, что ты бы сказала именно это. В тебе было вот это, рациональное, умеющее взвешивать… трезвомыслящая женщина, ты бы все оценила и сказала „спасай себя“, а я бы плакала у тебя на груди, и ты бы глушила эти рыдания своим родным, теплым телом… Мамочка, милая, как же трудно без тебя, как непосильно; нужно так, чтобы рядом был всегда человек, родной тебе по крови, который все поймет, а если и не поймет, то одного присутствия его достанет, чтобы тебе стало легче. Мамочка, так пусто становится от того, что тебя нет со мной, как он может никогда своих не вспоминать, один раз его спросила, а он: „плохо, — говорит, — конечно, но смерти никто еще не избежал“, ему, по-моему, никогда не бывает больно, такой человек, представить его посыпающим голову пеплом невозможно просто, хотя говорит, что в памяти возвращается и думает об отце…»
Читать дальше