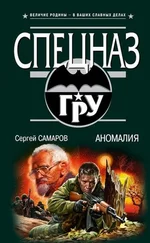«Это что-то, наверное, уже в генах, — сказала воспитательница, — наследственная психология: они заранее готовы к тому, что им никто ничего не даст. Любая роскошь в виде, скажем, конфет для них недоступна, и они с ранних лет усвоили, что нужно хватать, захватывать целиком, пока не передумали, не отобрали. Представления о справедливости, доброте, взаимопомощи они не получили, а вот понятием о зле, несправедливости, безразличии их наградили сполна».
Должно быть, его лицо показалось ей слишком брезгливым, и она замолчала. Камлаев записал банковские реквизиты детского дома и попрощался.
Когда вернулся, то спросил Нину прямо с порога — зачем тебе детский дом?
— Я хочу взять ребенка, — просто отвечала она.
— Почему ты не поговорила об этом со мной?
— Было рано об этом говорить. Я не знала, как ты к этому отнесешься. А вернее, боялась того, как ты к этому отнесешься. Я не могла решиться. И вот сейчас, когда решение оформилось, я с тобой об этом говорю.
— И какой же итог?
— Если ты сегодня побывал там же, где и я, ты должен был увидеть, что они нуждаются в любви. Любви им никто не даст, это заранее, почти наверняка известно. И если хоть кого-то одного из них не взять в нормальную жизнь, в семью, то будет одной загубленной жизнью больше.
— И ты уже выбрала?
— Как-то странно ты говоришь.
— Как «странно»?
— Ты все время говоришь очень зло и сознательно вкладываешь уничижительный смысл — «выбрала», «присмотрела»…
— Ну, хорошо, извини. Поставим вопрос иначе. Ты уже решилась, я правильно тебя понял?
— Почти. Без тебя я ничего не хотела решать. Ты поедешь туда завтра со мной?
— Нина, послушай меня хорошенько. Я понимаю твое нынешнее умонастроение, но выход, который ты якобы нашла, для меня неприемлем… совершенно. Если ты вздумала поиграть в милосердие, это одно, но если твоя затея серьезна, то это совсем другое. Я не хочу чужого ребенка.
— Он может стать твоим, нашим, и это зависит только от нашего усилия. Если так получилось, если так угодно Богу, то у нас не остается иного выбора.
— Да какого усилия? Ты в своем уме? О чем ты говоришь? Ты предлагаешь мне взять кого-то вместо моего ребенка? Почему я должен брать кого-то, когда я хочу своего ребенка, нашего. Я хочу, чтобы он был моим — по семени, по крови. А вовсе не по какой-то умозрительной любви, которая заставит меня видеть родное там, где никакого родного нет. Я хочу видеть в нем еще одного себя. Свое лицо, свои глаза, вот этот нос, вот эти руки… И на что мне сдался мальчик, в котором ни на волосинку, ни на родинку нет от меня? И от тебя, заметь, в нем тоже не будет ничего — так зачем он тебе?
— Если не можешь дать любовь своему ребенку, то это не значит, что ее нельзя отдать чужому. А у него нет никого, ты понимаешь? У него нет, и у меня нет, понимаешь?
— Да кому ты, Нина, предлагаешь мне отдать любовь и кому ты собираешься отдать ее сама? Вот только не говори, не надо, что брошенному, несчастному человечку. Если ты и можешь так, то я не могу. Я никогда не смогу относиться к нему как к своему.
— Ты заранее сдаешься и отказываешься. Ты заранее умываешь руки. А я любить хочу… как мать.
— Как мать? Кого ты собираешься любить как мать? Чьего ублюдка? Какую такую уникальную комбинацию многочисленных пороков и отклонений в развитии? Чей приплод? Вора в четвертом поколении и чесоточной алкоголички? Случайное последствие пьяной случки где-нибудь в канаве под забором? Нет, ты как хочешь это называй — милосердием, состраданием, жертвенностью, но только, пожалуйста, не материнской любовью. Ну, или уж по крайнем мере — не отцовской… не отцовской гордостью, так это точно. Ты хочешь любить чужого ребенка за то, что его никто больше не полюбит? Логика, достойная Сонечки Мармеладовой. А между тем ты почему-то ни на секунду не задумаешься о том, что родительская любовь, настоящая, может быть по отношению только к сво-е-му ребенку.
— Я хочу быть матерью, — как по заученному отвечала Нина.
— Да какой, — заорал он, — матерью? Кому? Нет у тебя такого органа, чтобы быть матерью! А стало быть, и права разглагольствовать о материнской любви тоже нет. Не можешь быть матерью — не будь, но не подсовывай себе самой чужого брошенного ребенка каким-то эрзацем!
Нина встала и оставила его на кухне в одиночестве. В детдом за ребенком она не поехала, потому что Камлаев этого не хотел.
Проснулся он с двумя женскими головами на груди и первым делом попытался осторожно избавиться от их раскаленной тяжести. С неимоверным трудом выпростав из-под одеяла затекшие, бесчувственные руки, он приподнял и отодвинул сначала темно-русую, а за ней и вторую, рыжую, с волосами, похожими на тугой моток медной проволоки. Рыжая, что-то пробормотав, перевернулась на спину и продолжила спать, как убитая. Русоголовая же опять упала ему лицом на грудь, и пришлось освобождаться сызнова. Ни за что не желала от Камлаева отделяться, и тогда он ухватил ее за плечо, перевернул и, морщась от боли, что разламывала темя и затылок, перелез через свою вчерашнюю любовницу, имя которой напрочь забыл. В соседней комнате спали Ленька Голубев и Марик Листимлянский со своим бабьем. В чем мать родила он прошлепал на кухню и, изогнув поджарый, длинный стан, сунул голову под ледяную струю из крана. Батарея пустых водочных бутылок на кухонном столе привела его в отчаяние: он почувствовал себя несчастным Мидасом, осужденным умереть не от голода — от похмелья, и каждая бутылка, к которой притрагивался новоиспеченный царь ослов, оказывалась пустой… Вернувшись назад, он увидел, что Голубев пробудился и, сидя, как индийский божок, взирает осоловелыми глазами на следы вчерашнего мамаева побоища.
Читать дальше