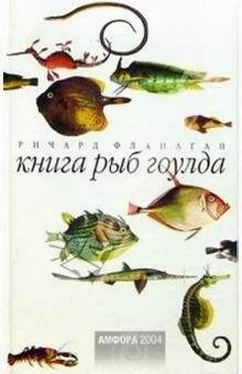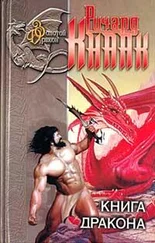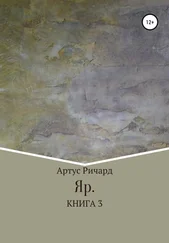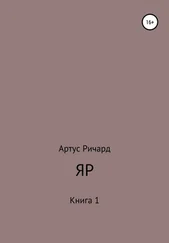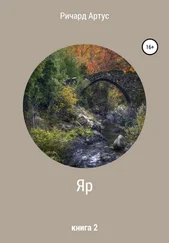Доктор положил конец моим попыткам вернуться мысленно в прошлое, спросив меня в присущей ему напыщенно-высокопарной манере, каково моё мнение о натюрморте как жанре.
Отвечая ему, я в красочных выражениях описал, насколько сильное влияние оказали на мою манеру письма такие выдающиеся голландские мастера прошлого столетия, как ван Алст и де Хеем, не говоря уже о Ван Гюйсуме, однако не упомянул, что своим знакомством с ними, как и узором в виде венков из глициний, обязан тем шести месяцам, что провёл на фарфоровой мануфактуре, расписывая для Старины Гоулда его изящные изделия, нанося на них снова и снова этот въевшийся мне в печёнки скучный цветочный узор, после чего каждый вечер в пивной Старина Гоулд монотонным голосом без конца превозносил каких-то скучных голландских маляров, живших невесть когда, — видите ли, они ему очень нравились. Но вот однажды поздним вечером его единственная дочь подходит ко мне и говорит: «Пойдём!» А у самой длинные ярко-рыжие волосы распущены, лицо всё усеяно веснушками; а она снова: «Пойдём со мною!» Мы с ней украдкою улизнули из дому и напились так, что я насилу сумел найти дорогу обратно в тёмную мастерскую Старины Гоулда, где мы вместе упали на полотно, расстеленное у входа, и на виду у всех собранных хозяином картин, которые там висели, принялись изображать некий оживший в весёлой пляске голландский натюрморт: восковые груши раскатилися по сторонам, и, вспыхнув, разломились сочные гранаты, а напоследок я прикинулся обмякшим мёртвым зайцем.
Старина Гоулд был человек многогранный, и в его заведении я почерпнул гораздо более всяких знаний, чем он мог сам предположить, причём не только вышеописанными способами. Например, между кистями и всякими инструментами у него попадались томики Гроция и Кондорсе, и он частенько просил дочь встать посреди мастерской рядом с бюстом Вольтера, водружённым на пьедестал и улыбающимся своей загадочною улыбкой, и почитать нам что-нибудь из сочинений сего великого человека, пока мы снова и снова наносили на поверхность фарфоровых изделий один и тот же замысловатый узор.
Со временем нас так захватили повести о Кандиде и докторе Панглоссе, что мы с моею любезной презрели голландские натюрморты и перешли к танцам во вкусе эпохи Просвещения, и моя милая была просто в восторге от тех услад, кои предложил ей «век разума»; она млела от всепонимающей улыбки Вольтера, коя набегала на неё, приближаясь и отступая, словно невысокие волны, готовые вот-вот взвиться белым барашком; и дочь Гоулда постоянно думала, как это приятно — возделывать свой сад.
Так что можете представить, сколь огорчила меня смерть Старины Гоулда; бедняга угодил под колёса почтового дилижанса, направляющегося в Ливерпуль, когда возвращался с рынка, куда ходил купить луку. Мануфактуру продали его душеприказчики, в результате чего его дочь обрела небольшое состояние вкупе с неимоверными амбициями, а вооружившись тем и другим, вскорости позабыла о даруемых разумом утехах, кои ещё недавно столь много значили для нас обоих, и вступила в довольно выгодный брак, взяв в мужья одного торговца железом из Сэлфорда с лицом, похожим на наковальню, и с характером, похожим на молот, так что мне не довелось увидеть, как поблекнут её веснушки, потускнеют пышные рыжие кудри, и не пришлось стать очевидцем тому, как наша любовь станет выцветшею и как бы седой.
Я между тем вынужден был вновь убираться на все четыре стороны, прихватив с собою три вещи, которые с тех пор недурно мне служат: память об удовольствиях, даруемых Вольтером и простирающихся далее, чем способен предположить человеческий разум; книжку с гравюрами столь любимых Стариной Гоулдом голландских натюрмортов и, наконец, его имя, присвоенное мной, раз уж ни ему самому, ни его дочери пользоваться им более не с руки.
Когда в кабаке, куда мне случилось заглянуть первым же вечером, меня попросили огласить свой титул, я не замедлил тут же его обнародовать полностью, объявив громогласно: «Я — Вильям Бьюлоу Гоулд!»
У меня и вправду не имелось сомнений, что теперь имя моё звучит гораздо лучше, являя собой в сих трёх словах упорядоченную череду коротких и долгих гласных, и, очень довольный своей как бы обновлённой персоною, я подмигнул женщине, оказавшейся, как впоследствии выяснилось, женою кабатчика, пока выговаривал Бьюлоу . И что бы вы думали? Жена кабатчика улыбнулась в ответ! И даже раньше, чем она успела вымолвить хотя бы слово, я уже знал, что ночью она переберётся из кровати муженька в мою, сколь бы плоха та ни была; так и случилось, и набитый сырою соломой тюфяк, брошенный на пол вонючей конюшни, показался и ей, и мне очень приятным.
Читать дальше