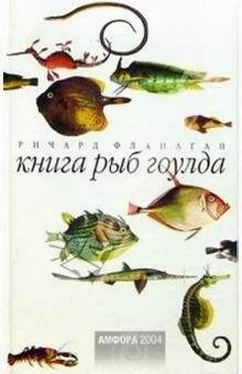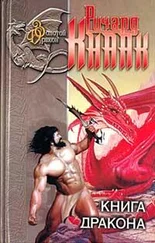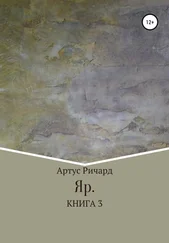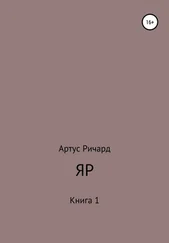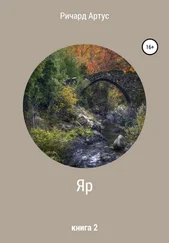Имелось и ещё несколько других экзотических пыток, названия которых свидетельствовали об извращённом желании палачей унизить свои жертвы — «дочь угольщика», то есть тиски, «помело ведьмы» и «ошпаренная стряпуха». Но больше всего боялись «колыбели», хотя эта пытка была самой пассивной. Избитых кнутом арестантов укладывали спиной на железные козлы и оставляли в таком положении, полностью обездвиженных, на многие недели; под тяжестью неподвижных, гниющих заживо тел израненные спины постепенно превращались в бесформенную зловонную массу, кишащую личинками мух, но из мозгов пытаемых получалась ещё худшая каша.
Наказания эти могли назначаться по одному — за небольшой проступок — либо сразу по нескольку — за более тяжкие провинности, например, если у вас найдут немного табака или сала, а то ещё хуже — приручённую птицу; преступлением также считалось делиться пищей, петь, недостаточно быстро идти на работу, разговаривать (проявление наглой дерзости), не разговаривать (молчаливое проявление наглой дерзости), смеяться и, наконец, хмуриться; хотя, на мой взгляд, единственным стоящим из них всех было грязно обругать присматривавшего за нами пристава либо его крайне приставучую собаку. Надо также отметить, что вы могли мгновенно взлететь по общественной лестнице Сара-Айленда или кубарем скатиться с неё — не из-за хорошего или плохого поведения и уж, конечно, не из-за того пыла, с коим вы принимали участие в Комендантовой затее преобразить остров или предавались привычкам прошлой жизни, а исключительно в силу случая, благоприятного или нет.
К тому и другому я был готов.
И всё благодаря рыбе-дикобразу.
Всё, что я ещё написал о зарождении новой нации и о строительстве новой Европы на диком острове, затерявшемся где-то под южными небесами, острове, на коем царят самые диковинные и превратные представления, только предстоит узнать тому, пред кем лежат сейчас исписанные мною листы; теперь же я расскажу о человеке, представшем передо мною в то памятное холодное утро, когда мы высадились на остров и разместились в кое-как сложенных из кирпича тесных бараках для вновь прибывших; то был занявший весь проход между нарами огромный джентльмен с головою, похожей на котелок, от которого чуть ли не шёл пар, да и сам он походил скорее на дымящийся пудинг, чем на живое существо, местами мучнистый, местами масляно-паточный, но именно ему предстояло навеки изменить мою жизнь.
— ТОБИАС АХИЛЛЕС ЛЕМПРИЕР… МИСТЕР… — проговорил этот ходячий пудинг. — ВРАЧ ЭТОЙ КОЛОНИИ… ЕСТЬ РАБОТА… ДЛЯ МЕНЯ… — выдохнул он, и пары только что поглощённого им горячего завтрака заволокли мою камеру плотным клубящимся облаком. Его манера говорить отличалась тем, что он произносил звуки в высшей степени неотчётливо, причём таким напыщенным и в то же время зловещим тоном, что создавалось полное впечатление, будто он вещает одними заглавными буквами. Слова появлялись в его речи не чаще, чем изюм в дурно пропечённом хлебном пудинге, слегка приправленном маслом, и производили впечатление каких-то тёмных и склизких комков.
Внешний вид его был настолько страшен, что в первый миг, когда я его увидел, меня всего передёрнуло. На удивление круглый, он выглядел скорей продуктом некоего бондаря, нежели существом, возникшим в результате обыкновенного зачатия. Его чёрный фрак с ласточкиным хвостом фалд, чересчур короткий и более нелепый, чем изящный, его тесные панталоны, его крошечные башмачки с серебряными пряжками — всё заставляло предполагать в нём больного водянкой страдальца, рядящегося повесой эпохи Регентства.
В его облике прежде всего бросалась в глаза и производила самое жуткое впечатление совершенная бледность огромной лысой головы — она потрясла меня настолько, что в первое мгновение я подумал, будто тень ломателя машин явилась из небытия, дабы преследовать и мучить меня. Эта белизна заснеженной пустыни на его лице контрастировала, однако, с чернотой жировых складок и брылей. Позднее мне довелось узнать, что на самом деле его лицо болезненно жёлтое, а вовсе не белое, словно у призрака, и что он пользуется поблёскивающими свинцовыми белилами, отчего имеет такой вид, будто его только что посыпали мукою. Возможно, как раз воздействием этого не слишком полезного для здоровья металла и объяснялись его чудачества, с коими мне довелось познакомиться позже и кои напомнили мне о лондонских шляпниках, полоумных, как говорят, по той же причине. И всё-таки именно то первое впечатление, кое произвёл на меня его неземной и даже нечеловеческий вид, прочнее всего связанного с ним засело в глубинах моей памяти.
Читать дальше