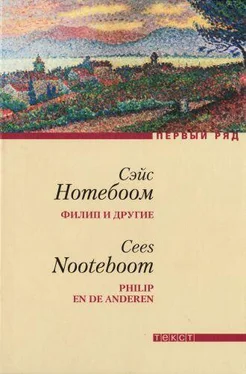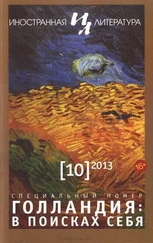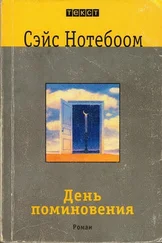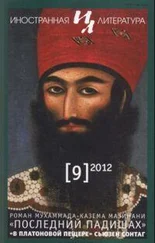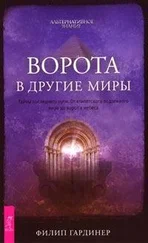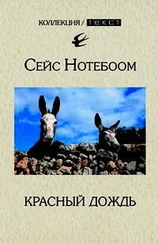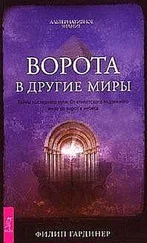— Фэй, — ответила она.
Это были руины. Вблизи я смог лучше разглядеть их в печальном свете утренней зари. Я увидел королевские папоротники, полосатую зелено-белую траву, плющ и вьюнки, пробившиеся сквозь бесцветное каменное крошево, живые и мертвые, заплесневевшие, скрученные и жалкие, они ковром устилали желоба и обвивались вокруг обломков колонн — словно солдаты, взявшие крепость и добравшиеся наконец до баб.
Двери, на которых меж островков облупившейся краски вырос грязный мох, стояли по колено в мертвой, ржавой воде, покорно прислонившись к склону воронки от бомбы; и, погибнув в отчаянном, смертном бою, валялась разбитая мебель и разодранные матрасы, сладковато пахнущие гнилью.
Изящные башенки были разрублены вдоль, можно было заглянуть в них, как внутрь трупа, распростертого на столе в анатомичке. В лучах света, проникавшего сквозь дыры от пуль, голубовато поблескивали каменные ступени винтовой лестницы.
Фэй поднималась по лестнице впереди меня. На полпути была низкая кривая дверца, которую она пнула ногой и сказала:
— Единственное жилое помещение.
Это была длинная, узкая комната. В тусклом свете я разглядел на стенах остатки обоев из темно-красной кожи, украшенных золотыми руническими письменами. Из двух окон одно было забито досками и листами картона. Окна были слева от двери; а на стене напротив висели длинным, неровным рядом два десятка фотографий, изображавших в основном мужчин и мальчиков — было там, впрочем, и несколько девочек. Некоторые фотографии были очень большими, другие — размером с почтовую открытку, и несколько совсем маленьких — как для паспорта. Каждое фото было с математической точностью перечеркнуто аккуратно нарисованным по линейке красным крестом. Я не нашел среди них знакомых лиц. Ниже была прибита грубая длинная полка, на ней стояли баночки с цветами, под каждой фотографией — разными. Я сел спиной к фотографиям.
— Там в углу, за занавеской, лежит пара матрасов.
У нее был хрипловатый, красивый голос.
— Тебе, наверное, лучше лечь спать, ты выпил больше чем достаточно, а завтра явятся остальные. Смотри только, не ляг на Аббата и Пастора.
Я хотел было отодвинуть котов, устроившихся в углу, потому что люблю спать у стенки, но один — позже я понял, что это был Аббат, — решил, что с ним играют, и вцепился когтями мне в руку; пришлось лечь на другой матрас.
Фэй отодвинула занавеску и кинула мне кусок ткани:
— Возьми-ка скатерть и завернись в нее как следует, в этом проклятом доме всегда сыро и холодно.
***
Не знаю, было поздно или рано, когда я проснулся: пока я спал, плотная темная вуаль дождя окутала землю. Голова была тяжелая и болела; преодолевая головокружение, я подошел к окну и стал смотреть на дождь.
Вдруг раздался короткий сухой щелчок — лязгнули ножницы, — и я увидел Фэй.
Она стояла босиком меж острых обломков камней и срезала цветы шиповника. Ее короткие волосы, смоченные дождем, казались иссиня-черными. На ней был прозрачный фиолетовый плащ, а под ним — короткое черное платье. Она была красивее всех женщин, которых я знал до сих пор, красивее даже той, китаянки, но ее я видел лишь раз, мельком, в Кале. Потом, на острове, мужчины на моих глазах сходили с ума при виде Фэй. Совершали идиотские поступки, лишь бы привлечь ее внимание, надеясь переспать с ней. Но даже когда им это удавалось — оттого, что она их почему-то захотела либо просто была пьяна, — им доставались лишь тяжелые воспоминания о сильных челюстях, острых зубах и полном безразличии с ее стороны на следующий день — и навсегда.
Прежде чем срезать цветок, она всякий раз придирчиво разглядывала его, непроизвольно натягивая при этом верхнюю губу на зубы, а нижнюю челюсть чуть выдвигая вперед. Такое выражение лица бывает у ребенка, выбирающего, которое из насекомых поймать. Я много раз замечал у Фэй это движение губ, не только по отношению к цветам, и находил его жестоким — почти дьявольским. На лице ее застыло саркастическое выражение, глаза сузились и казались меньше и жестче — я думаю, даже темнее — и еще недоступнее, чем прежде.
— Привет, — крикнул я.
Она повернулась, посмотрела вверх. И засмеялась. Фэй редко смеялась, и утонченность, которую обретало при этом ее лицо, сбивала с толку, потому что обычно оно казалось грубым из-за saudade, [20] Здесь: ностальгия (порт.).
контрастировавшей с неприкрытым сарказмом, который излучали ее глаза.
— Подожди-ка, — крикнул я и побежал вниз. Там я снял с себя верхнюю одежду и носки и сложил в сухом месте под лестницей, где раньше была терраса.
Читать дальше