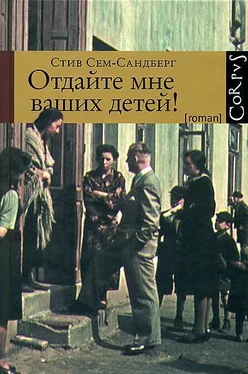Падает свежий снег, ложится в темноте.
Вокруг Адама устанавливается и сгущается тьма.
Он в самом сердце зимы, он покоится в ней, словно камень в брюхе большого спящего зверя.
Стоят морозы. Удивительно, но снег не пускает холод.
В Зеленом доме теперь не так сыро и влажно.
Адам вскрывает пол и пилит доски на дрова. Пилит старой ржавой железной решеткой, которой обычно разравнивает пепел, чтобы подольше сохранять тепло.
Медленно, очень медленно Зеленый дом заселяется снова.
Однажды ночью Адам слышит, что в комнате Розы играют на фортепиано.
Но с музыки снята звуковая оболочка. Слышны только сухие механические удары молоточков по струнам в чреве инструмента. Внутренняя музыка. Удары становятся сильнее, падают чаще. Наконец звук уже оглушает: какофония холодного перестука, которая лихорадочным ознобом прошибает его собственное тело.
Адам понимает, что заболел.
Лихорадка прокатывается по нему волнами, то жаркими, то ледяными. В теле опасная сонливость, которой, инстинктивно понимает он, нельзя поддаваться. Чтобы не дать сонливости завладеть собой, он кричит. Кричит в никуда, насколько хватает легких. Выкрикивает имя Фельдмана. Выкрикивает имя отца. Выкрикивает имя Лиды. Когда имена кончаются, он начинает выкрикивать названия знакомых мест, названия улиц гетто.
Звучит ли крик или исчезает, едва вырвавшись у Адама из горла, — слабый шепчущий выдох? Адам больше не доверяет своему слуху. Он не знает, слышно ли где-нибудь снаружи то, что слышно ему.
Наконец голоса покидают его, и он умирает от усталости.
В лихорадочном бреду он ползает по полу, как не умеющий ходить малыш.
Вокруг, перебирая руками и ногами, ползают другие дети.
В комнате полно детей. Так и должно быть.
Лида тоже маленькая девочка. Огромная голова с теплым, влажным, слюнявым ртом. Она, как всегда, замотана в грязную простыню с дырами для рук и ног — так, чтобы она не могла вымазаться собственными испражнениями.
Каждый день мать стаскивает с нее эту простыню, стирает, сушит и снова через голову натягивает на Лиду.
Но теперь Лида чистая. Она тащит за собой свое длинное тело, как будто оно всего лишь тесная, набитая чем попало оболочка, кокон, из которого вот-вот выйдет бабочка.
Лида улыбается влажным ртом. Блестящая, открытая, умиротворенная улыбка.
Я и не умирала, говорит она.
Несколько дней он время от времени слышал выстрелы, не понимая, откуда они. Не плотный ковер гула союзнических самолетов, не душераздирающий свист, с каким падают бомбы, не гранатометы — даже не частое тарахтение автоматных очередей.
Нет, то, что он слышит, — это механические ружейные выстрелы.
Торопливый случайный скрежет по его внутреннему небу, небу, которое он теперь надевает на голову и плечи каждый раз, когда просыпается.
Эмалево-серое небо над низкой оградой кладбища и искалеченными деревьями. Адам не может поверить, что один и тот же, один и тот же пейзаж будет возвращаться день за днем, его первое побуждение — снова лечь, попытаться заснуть и тем бросить вызов голоду. Звук выстрелов становится наконец привычным, как стук дождя или капели, когда за ночь наметет сырого снега и он начинает таять.
Лишь когда за выстрелами приходят голоса, он просыпается окончательно.
Голоса то близко, то далеко, и снова трудно понять, звучат они наяву или в нем самом.
Безопасности ради он натягивает ремень винтовки на плечо и выходит.
После долгой неподвижности свободные движения даются с трудом. На руки и ноги Адаму словно надели колодки, голову трудно удерживать прямо. Любой, кто увидел бы его сейчас, сказал бы, что он тень прежнего Адама.
Может, это и правда. Он пережил самого себя.
Пережил, несмотря ни на что.
Слепяще-белый зимний свет над полями и лугами, еще покрытыми снегом.
Но кое-где уже протаяли участки темной земли. Мир черно-белый, с полосками снега, бегущими по черным полям отражениями великой небесной белизны.
На белом двигаются люди. Они идут по той же дороге, по какой колонны рабочих раньше ходили на Радогощ. Но эти двигаются свободнее; они словно отказались подчиняться командам. Время от времени кто-нибудь из них останавливается, кричит или машет руками над головой. При этом останавливается вся колонна, и остальные тоже принимаются кричать и махать руками. Расслышать слова невозможно. Голоса сливаются в звуковую стену, такую же резкую и враждебную, как световая стена, небо.
Читать дальше